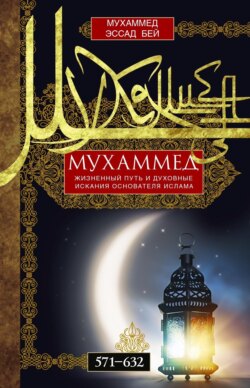Читать книгу Мухаммед. Жизненный путь и духовные искания основателя ислама. 571—632 - - Страница 4
Часть первая
Мир до пророка
Поющая пустыня
ОглавлениеМой шатер, где дует ветер, прекрасней роскошного дворца.
Ум-Йезид, мать шестого халифа
Можно ли считать единым народом этих бедуинов, не знающих ни государства, ни принуждения? Какие узы связывали их? Что заставляло эти бесчисленные племена, постоянно занятые войной, время от времени признавать себя членами одной общности?
Вот что на это отвечает старинная арабская поэма: «Бог даровал этому народу четыре милости: во-первых, простой тюрбан, который для пустыни лучше короны; во-вторых, шатер, более практичный, чем дворец; в-третьих, меч, защищающий лучше самых высоких стен. Четвертый дар небес, высший дар, не что иное, как чудесное искусство свободной песни. Араб находит в нем наивысшее наслаждение». Возможно, это утверждение покажется несерьезным; тем не менее оно совершенно точное. Единство суровых арабских племен основывается исключительно на силе их слова, на арабской мелодии.
Песня правит пустыней. Даже в наши дни не известен другой народ, испытывающий такой восторг перед красотой слова, лирическим выражением. Эти жители пустыни, почти дикари, обладают языком, богатство которого нас смущает. Язык для арабов играл ту же роль, какую другие народы приписывают архитектуре и живописи.
Языком араб владеет мастерски. Он знает сто слов, обозначающих верблюда; он радуется, используя самые сложные фразы, и глубоко презирает несчастные народы, чьи идиомы не могут соперничать по богатству с его оборотами речи. Он тщательно заботится о чистоте своего языка. С самого нежного возраста он приобщен к искусству красиво говорить. За грамматическую ошибку бедуин задает своим детям трепку. Потому что слово священно, потому что язык, единый для всех арабов, делает из них один народ.
Тот, кто хочет приобрести какую-то власть над ними, должен в совершенстве овладеть их языком. Конечно, каждое арабское племя использует свой особенный диалект, с трудом понимаемый соседними племенами. Но над всеми этими диалектами царит язык поэтов пустыни, арабский литературный; каждый член любого племени должен его освоить, если хочет считаться настоящим арабом. Ведь это поэтический язык, а араб дорожит своей поэзией больше, чем тюрбаном, мечом и шатром, а это много значит. Каждый араб, без исключения, умеет слагать стихи, он страстно увлечен литературными вопросами. Поэзия представляет для него спорт, политику и ежедневную газету. Через нее он выражает одновременно чувство прекрасного, общественное мнение, политическую информацию, она соединяет в себе все, что может заинтересовать араба.
Каждый араб – поэт. Сидя на своем верблюде, предоставленный самому себе в тусклые и монотонные часы пути, он покачивается в такт мерному шагу своего животного. Ему надо как-то бороться со скукой, не заснуть, отвлечься от пустыни; тогда он начинает описывать окружающий его мир, и верблюда, везущего его, и бесконечное небо над головой, и собственную силу. Сначала он говорит медленно и монотонно, свободно импровизируя. Понемногу его речь приобретает правильный, скоординированный характер; он приноравливается к ровному ритму шагов верблюда. Это органический ритм всей бедуинской лирики; самые сложные метры арабской поэзии в основе своей все равно восходят к вариациям особенностей ритма шага верблюда по огромной пустыне.
Красоте слова, его поэтической силе араб придает огромное значение. Слово это магия; тот, кто им владеет, превосходит в силе воина. Настоящий поэт может словом творить чудеса, исцелять больных или изгонять из них злых духов. Даже если ему не удается это сделать, это нисколько не умаляет его могущество. Порой одного удачного слова поэта достаточно, чтобы разрушить репутацию араба среди всех племен пустыни. Этих насмешливых замечаний боятся больше, чем меча героя.
У каждого племени есть собственный поэт, который выступает на бой за него. Перед сражением двух племен их поэты выходят вперед и каждый исполняет славословия в честь собственного племени и оскорбления в адрес противника. Арабы сосредоточенно слушают. Не раз бывало, что племя, чей поэт, в конце концов, проигрывал, молча отступало, не вступая в бой: какой смысл прибегать к мечам, если вас победила песня?
Великим событием в жизни пустыни являлся турнир поэтов. Победителю оказывались неслыханные почести. Его произведение, вышитое большими золотыми буквами на черном полотнище, вывешивалось над входом в храм богов.
Арабский поэт редко умеет читать и писать. Он по необходимости импровизирует. Его поэма, если она хороша, сразу овладевает вниманием слушателей. Чем быстрее он ее продекламирует, тем большей славой себя покроет. Престиж поэта играет в жизни пустыни основную роль. Никогда в ней не будет царствовать не имеющий дара красиво говорить. Лишь тот, кто держит народ под магией своего красноречия, осыпает противника язвительными насмешками, к месту исполняет хвалебную песню в честь своего племени, лишь тот может получить управление народом, которому поэзия заменяет газету, кино и книги. Бард, если к тому же он обладает качествами доблестного воина, может стать владыкой пустыни.
О чем же поет лирический поэт? О любви, о кровавой ненависти, о романтических сражениях, о племенной гордыне. Он описывает существование в пустыне, верблюда, коня. Но еще выше своего творчества, великолепного, специфические достоинства которого может оценить только араб, стоит поэт, окруженный ореолом романтических приключений, прекрасное воплощение бедуинского идеала.
Одним из самых знаменитых в древности был Амр ибн аль-Абда, по прозвищу Тарафа. Он жил во времена Сасанидов, при дворе царя Хирского. Воспевал любовь, вино и своего верблюда, которого любил больше всего на свете. Он был насмешником и любил пошутить, по очереди, над вином, женщинами, богами. Царь слушал его со снисходительной улыбкой. Но однажды Тарафа пошутил над самим царем. Улыбка исчезла; лицо монарха помрачнело, и он стал подумывать, какое наказание назначить за оскорбление величества. В конце концов подходящей карой для дерзкого поэта ему показалась лишь смерть. Но он не решался казнить любимца богов. Кровь поэта слишком ценна, чтобы проливать ее рукой палача. Сам царь никогда бы не осмелился публично огласить такой приговор. Он приказал позвать к нему Тарафу, передал ему письмо и сказал:
– Отнеси его моему наместнику в Бахрейне. Там тебя ждут большие почести и награда.
Поэт Тарафа не умел читать. Он взял письмо и отправился в путь через пустыню. По дороге он встретил знаменитого мудреца, настолько мудрого, что он знал грамоту. Ученый человек прочитал письмо, поскольку в те времена понятие тайны переписки не было известно.
– О, Тарафа! – воскликнул он. – Не езди в Бахрейн. Ведь что говорится в этом письме? В нем приказ наместнику закопать тебя живьем в наказание за насмешливую поэму. Разорви его и выбрось в реку.
И вот ответ поэта Тарафы:
Умение читать – великое искусство; великое искусство
письмо.
Позже поэмы Тарафы тоже прочтут, тоже запишут…
Я не совершу такой ошибки! Нет, я никогда не уничтожу
того, что написано!
Лучше умереть!
Он продолжил путь и принял ужасную смерть во имя искусства письма.
Еще более романтичной была жизнь поэта Антары ибн Хаддада из племени Аб. Его матерью была негритянка; поэтому только героические подвиги его отца могли доставить ему равенство с его белыми братьями. Несмотря ни на что, все белые племена не щадили своими насмешками сына черной рабыни. Но Антара любил повторять: «Моя душа похожа на тела моих белых товарищей; мое тело похоже на их души». Для тех, кто не понимал, он добавлял: «Рождение сделало меня благородным лишь наполовину; мой меч доставил мне остальное». Всю жизнь Антара сражался со своими противниками, распространял стихи как о врагах, так и о друзьях, создавая рифмы на спине своего белого верблюда. Арабы почитали его как поэта, но никогда не питали к черному сыну рабыни ни дружбы, ни любви.
Антара взял за правило дарить первому встречному, пусть даже незнакомцу, все, что тому понравилось; он не считал принадлежащим себе то, что добывал своим мечом. Арабы, не любившие его, решили, однако, за его храбрость, мудрость и щедрость дать ему имя Антара эль-Хаки, «счастливый». Он отказался. «У меня есть враг, – заявил он, – пока я не найду его и не убью, не могу называться счастливым». – «Так убей его поскорей, потому что нам не терпится приветствовать тебя как Антару Счастливого». Поиски врага затянулись. День и ночь Антара прочесывал пустыню, расспрашивая всех, кого встречал, моля богов помочь ему совершить месть. Но трусливый враг уклонялся от встречи. Тогда Антара дал ему прозвище «убегающее счастье». Наконец боги сжалились над поэтом: он увидел на горизонте своего врага. Антара вздрогнул от радости. «Наконец, – подумал он, – мое заветное желание осуществится» – и приготовился к поединку. Противник, со своей стороны, тоже узнал его и искал спасения в единственном средстве, имеющемся у трусов: в бегстве. Но верблюд Антары разрушил его расчеты. Враг уже настигнут, уже занесено над его головой копье Антары. В этот момент враг оборачивается и кричит: «О, Антара! Подари мне твое оружие!» Не в силах отказать в просьбе, Антара бросает свое оружие к ногам врага и уезжает, чтобы «убегающее счастье» не пронзило его выпрошенным у него копьем.
Узнав, что произошло, несколько бедуинов стали хвалить врага за то, что тот великодушно оставил Антару живым и невредимым. Но большинство ругали черного человека с белой душой. Однако, когда наступил священный месяц, арабские женщины выткали большое черное покрывало, на котором местные мудрецы написали золотыми буквами имя вежливого поэта Антары. И приказали воинам повесить этот трофей у входа в храм богов, перед священным камнем Каабой. Что же касается Антары, он называл сам себя безумцем, что на языке древних народов является синонимом Антара-поэт.
В пустыне рассказывали множество историй такого рода. Речь всегда шла о героических поэтах, сражающихся с миром, который они покоряли силой своих песен. Они символизировали арабские добродетели.
Но ни один из них не мог сравниться гениальностью с царским сыном Имру аль-Кайсом ибн Худжром. Его жизнь является цепью приключений. Отец изгнал его из-за легкомысленного нрава, и он ушел вместе с друзьями в пустыню. Там он пел свои поэмы и был любим женщинами. Но клан Бану Ассад убил его отца, и ни один из братьев не захотел за того отомстить. И вот Имру аль-Кайс, проклятый сын, решил посвятить свою жизнь мести за отца. Десять, двадцать лет он без устали носился по пустыне во всех направлениях, сражаясь с Бану Ассад, и, наконец, обосновался в крепости еврея Самуила, а позднее попал ко двору византийского императора. Там ему воздали большие почести и назначили наместником в Палестину. Предположительно, он умер в Ангоре, отравленный императором, чью племянницу соблазнил. О его жизни и жизни его верного друга Самуила создан целый цикл романтических легенд. В частности, рассказывают, что, когда Имру аль-Кайс укрылся в цитадели Аблак, владении Самуила, его самым ценным имуществом были пять панцирей, делавшие его неуязвимым. Когда он отправился в Византию, хирский царь повелел еврею Самуилу отдать ему доспехи Имру аль-Кайса. Самуил аль эль-Уаффа, верный дружбе, решительно отказался и после эпического сражения был предан мучительной смерти. И сегодня еще бедуины помнят Самуила и Имру аль-Кайса.
Имру аль-Кайс, Антара, Тарафа и многие другие рыцари-поэты стали героями арабской истории. В них воплощается старая романтическая Аравия бедуинов, шатры, каменные идолы и кровная месть. Аравия была бедна, презираема людьми, она представляла собой лишь пустыню, дикость, варварство. Никто над ней не сжалился, никто не принимал в расчет. Один только бедуин любил свою страну, как ребенок любит мать. Он любил благородные сражения в пустыне, состязания поэтов, их бесчисленные песни во время долгих переходов. Стоит ли удивляться, что, когда Аравии был ниспослан посланец Бога, многие увидели в нем поэта?