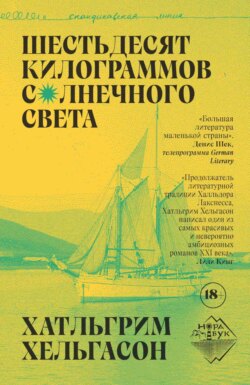Читать книгу Шестьдесят килограммов солнечного света - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга 1
Из сугроба ты вышел
Глава 21
Сосед по комнате
ОглавлениеГород Фагюрэйри располагался в самой глубине великого Эйрарфьорда, который был настолько длинным, что тянулся от самых крайних побережий вглубь острова почти до середины. Если уподобить Исландию большому торту-мороженому, из которого вынули длинный кусок, то место, оставшееся от этого куска, и было бы Эйрарфьордом, украшенным тремя песчаными косами: Фагюрэйри, Квальбаксэйри и Мьяльтэйри. Первая из них находилась в глубине фьорда и благодаря своему расположению была в этой холодной стране единственным островком климата, хоть сколько-нибудь похожего на континентальный. Прохладные ветры с юга, пробежав через всю страну, прибавляли несколько градусов тепла и сбегали с центрального высокогорья горячими, как из печи. Приезжих это удивляло: ведь, согласно общему правилу, исландский ветер должен быть холодным, – и порой можно было заметить, как гость стоял в изумлении на туне[38] и сушил свою давно промокшую душу теплыми дуновениями с юга. Точно так же и арктически студеные северные ветра всегда оказывались изнурены долгим путешествием вглубь фьорда, когда наконец достигали Лужицы – так называлась гавань в Фагюрэйри, в которой веками царил штиль.
Также там произрастал единственный на всю Исландию лес и единственное поле со злаками, а в городе перед лучшими домами в палисадниках распускались декоративные растения. Так что поселение здесь было необыкновенно цветущим, от него веяло другими странами, более обыкновенными, в которых выпадало больше бессвитерных дней, чем лишь один-два, и где люди, например, считали в порядке вещей сидеть в кресле на улице. Жители города в связи с этим осознавали свою ответственность и пытались обращаться со своими необычными условиями жизни достойным образом, снимали шапки перед деревьями и разговаривали со своими цветами по-датски[39].
Здесь было примерно пятьсот жителей, в основном простонародье, в поте лица добывающее пропитание, однако на этой прекрасной косе также складывалось и крошечное сообщество чистой публики, так как множество шляпоголовых стучало тростями о мостовую: сислюманн, викарный епископ, пастор, редактор, торговец, еще торговец, и еще торговец, рыбопромышленник, крупнейший исландский поэт. Они никогда не спешили по городу, напротив, им приличествовало почтительно шествовать при цилиндре и перчатках. Они всегда здоровались друг с другом, словно учителя, встретившиеся в коридоре гигантской школы, слегка утомленные тем, что им день-деньской приходится общаться со всякими невеждами и просвещать их, а также довольные, что им удалось перекинуться словцом с ровней. Своих жен они держали дома, большею частью на верхних этажах, где те развлекались писанием писем, вышивкой и прическами.
– Смотйи, папа, домики! Много домикев!
Гест как завороженный смотрел на город, полукругом обступивший Лужицу, простершуюся от середины косы вглубь фьорда. Даже его отец удивился этому деревянному царству, которое с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, явно подросло. Плавание прошло хорошо; «Слейпнир» легко вплыл во фьорд под сырым северным ветерком, его лишь слегка покачало, когда он проходил крайнюю скалу Оудальсфьорда. От той качки Гест проснулся, и его стошнило на ладони отцу. Больше всего сия рвота напоминала золото.
Их пустили к себе жить Лауренсия, сестра матери Эйлива, и ее дочь Маргрьет. Они обитали на Косе в каменном подвале искривленного ветрами деревянного дома, стоявшего во втором ряду, если считать от взморья. Отцу с сыном отвели темный закуток в глубине жилья матери и дочери, – место, во многом бывшее дивной помесью сырой прачечной и конюшни, потому что в передней части комнаты стояла рухлядь-кровать для людей, а в задней, за обветшавшей деревянной решеткой жевал сено абсолютно черный жеребец. У него был выход из подвала через заднюю дверь, но он им не пользовался, а справлял нужду прямо на пол. Желтый ручей тянулся из-под решетки на середину комнаты, где впадал в продолговатую лужу, которая в свою очередь вытекала в неприглядный сток, зиявший в полу.
– Как его зовуть? – спросил Гест вне себя от радости.
– Космос, – сухо отвечала старуха.
Лауренсия родила в этот мир 18 детей, и у нее развилась на этот вид существ стойкая аллергия. Младшей у нее была Маргрьет – больная, находящаяся на попечении матери, уже одиннадцать лет прикованная к постели. Это был тяжелый случай морской болезни, возникшей, когда мать с дочерью плыли сюда с Лодочного берега, и не прошедшей на суше. Эта сухопутная морская болезнь выражалась в обильном образовании влаги и выделений вокруг больной, стена в ее изголовье была сплошь покрыта морскими водорослями, белоракушечными морскими желудями и мшисто-зелено-рвотной плесенью.
– Кофмос! Там мамкя зивёть! – воскликнул милый мальчуган, не сводя восторженных глаз с жеребца, а потом на секунду призадумался: – Мамкя в лофадь.
Конек сделал небольшой перерыв в жевании и чуть заметно двинул головой в сторону отца и сына, а его морда при этом напоминала обиталище усопших. В узкой полоске дневного света из грязного оконца под самым потолком на его черном лбу посверкивала звездочка.
Старуха давным-давно исчерпала весь свой запас гостеприимства; она резкими шагами ходила по комнате: худоногая, согбенная – так что ее седые косички мотались у нее перед лицом, словно атрибуты какого-нибудь дохристианского раввина. Это придавало старухе вид одновременно весьма древний и на удивление девчачий. – Кормить я вас не буду. Тут еще в прошлом году все кончилось.
Вечером они скудно поужинали взятой в дорогу провизией. Назавтра было 29 апреля. Через четыре дня должен прийти их корабль. В этом агент не соврал, потому что подтверждение Эйлив получил от двух галстучных господ у лавки Коппа, и тогда грубиянка Лауренсия стала ругаться, что весь город заполонил люд, «без которого в стране воздух будет чище»[40], а потом взяла и захлопнула ту влагозащитную мембрану, которая в этом жилище играла роль входной двери. Гест вытаращил глаза на эту дверь, а затем на другую, полуприкрытую, ведущую к больной. А затем тихонько вошел к этой своей родственнице, приблизился к кровати и прошептал на ушко тайну:
– А мы во Мейику едем!
Женщина с синими кругами под глазами стеклянно уставилась на него из-под своей богатой коллекции морской фауны, украшавшей стену (а что это вон там? часом не морская звезда?), и ответила жалким хриплым голосом:
– О, о! Прямо через океан?
Ее услыхал Эйлив, вздыхая, пришел к порогу, извинился за сына и велел ему оставить больную в покое. Старый хуторянин из Перстовой хижины порядком умотался оттого, что ему постоянно приходилось исполнять роль няньки, будь она неладна! Он-то рассчитывал, что родственницы приглядят за мальчиком, а он будет ходить в город по делам и, может быть, заглянет к своему другу старине Вальди из Ущельной хижины, у которого всегда найдется глоток корабельного винца. Но об этом и речи быть не могло: одна не вставала с постели, а другая была настоящим ходячим пугалом для детей. Этот мужик вытаскивал акул из моря, овец из сугробов, проходил буран насквозь за каких-нибудь пятьдесят часов – но все это было детской забавой в сравнении с этим непосильным трудом. Мальчику вечно хотелось есть, болтать, какать, писать, а еще он вечно вертелся, и с него ни на миг нельзя было спустить глаз. Если Эйлив улучал минутку, чтоб выполоскать с тряпки-подгузника и из ночного горшка следы поноса, Гест с голеньким задом уже оказывался на улице и на взморье и уже вовсю ссорился с шелудивым псом из-за дохлой птицы. Заканчивалось все это, разумеется, горькими слезами, а измученный отец спрашивал всех своих внутренних человеков, не лучше ли подыскать для ребенка хорошую приемную семью, а самому отправиться во Мерику в одиночку. Это разве препятствие? Где вообще видано, чтоб мужчина возился с малышней? Конечно же, нигде, и на то есть своя причина. Вот как, черт возьми, повязать на ребенка эту тряпицу, чтоб все какашки сгружались точнехонько в нее?! Но потом он вспоминал свое возвращение в Перстовую, ноги жены и маленькую ручонку в ее руке, – и чувствовал, что никогда не расстанется со своим Гестом.
Корову Хельгу он в конце концов продал Стейнгриму, а также получил на руки сумму за продажу земли Перстовой хижины, которую в свое время положил на счет хозяина Перстового в кооперативе, – всю за вычетом хлопот, которые эта выплата доставила купцу. Ведь в том банке, который представляла собой лавка исландского торговца, деньги снимали отнюдь не каждый день, там господствовал товарообмен, так что торговец обвинил Эйлива в том, что тот хочет выбить почву из-под ног у его дела, требовал у него разрешения от хреппоправителя, – да и что он собирается делать с такими деньжищами – стоимостью целой коровы и хижины? В конце концов нашему герою удалось-таки выбить из него свои деньги: не мытьем, так катаньем; правда, торговец отхватил себе от этой суммы четвертую часть как компенсацию самому себе за моральный ущерб. В карман брюк Эйлив положил сто старых ригсдалеров – единственные деньги, которые он в жизни держал в руках: их должно было хватить на проезд до Шотландии, а оттуда – через океан на запад.
Через океан на запад! Подумать только: он купит себе целый океан!
Космос был приятным соседом по комнате: спокойным, домашним, не двигался с места и целыми днями жевал свое сено, которое всегда берег, ведь ему – подвальному коню – много и не давали. Для Геста он был богом, а Эйлив был вынужден признать, что ему трудновато заснуть, если так близко от него стоит лошадь; корова Хельга – это другое дело, по вечерам она всегда укладывалась в их маленькой бадстове, а конь спал стоя, плотно сжимал ноги, выпустив из них все сознание, превратив их в четыре ножки, а собственное туловище – в матрас, голову – в изголовье, – он превращал в кровать самого себя и так спал самым идеальным в мире сном.
Этот тихий мудрец был преисполнен метафизического покоя и наделен сверхчувствительностью к обстоятельствам. Когда он бодрствовал, то часами мог стоять неподвижно, размышляя о положении вещей во Вселенной, истории и развитии галактик, тихонько вращавшихся в нем. Его с легкостью можно было бы назвать философом, думающим о судьбах мира, если б он сам по себе не был целым миром. Во всяком случае, наш мальчуган был убежден в этом.
«Кофмос не спа́ет», – такую фразу он произносил последней каждый вечер, а потом снова ложился и смотрел, преисполненный восхищения и благоговения, на этого своего огромного друга, молча стоявшего в своем углу, – пока глазки Геста не закрывались; и тогда его разум выходил прогуляться по сновидениям в детской душе, показывал свои быстро-летучие картины и вытряхивал из своего цилиндра северные сияния, крутящиеся в космосе души. Все это были такие вещи, о которых Гест никогда не узнал бы никаких вестей, этот блистательный хаос принадлежал океанским глубинам жизни. Ибо как море таит в себе жизнь, богаче той, знакомой человеку на земле, так и душевная жизнь представляет большей частью неисследованную бездну, где днем и ночью сверкают гигантские зарницы, которые ни один человек никогда не видел собственными глазами.
Впрочем, мы кратко опишем их здесь.
В Гестовых глубинах ночами напролет сияла та смутная уверенность, что его мама – где-то в конских внутренностях у Космоса, плавает там при мертвенно-синем свете своей души – умершая женщина, а в придачу к ней и сестренка, и они наконец приняли окончательную форму усопших, больше всего напоминающую скомканную бумажку, но при этом твердую и неизменную. И эти два черных горестных комка плывут по Вселенной, повинуясь законам ее ветров, подобно шуршащей опавшей листве на улицах и в садах. Но эти формы посмертного бытия все же имеют крошечный размер, чтобы целые души Вселенной уместились в одном коне, а кроме них коня темноты наполняют все звезды небесные, вся жизнь планет и все планеты галактики, все галактики, известные и неизвестные, вместе с их похожими как две капли воды богами, и вся эта гигантская совокупность тихонько плывет по жилам черного Космоса, где каждое солнце – белое кровяное тельце, а каждая луна – красное кровяное тельце. По этой причине Космосу приходилось двигаться очень осторожно, а лучше всего вообще не двигаться, ибо черно-бурый звездоносный конь лучше людей знал, что он – Вселенная. Каждый клок сена, который он съедал, сгорал в космической пустоте, подобно комете, и каждый метеорит, упадавший с него, тотчас уносился на всеполе которое окружает Вселенную и превращает сена воз в навоз путем простой замены звуков. Это называется – круговорот жизни.
Когда Гест просыпался от этой круговерти и распахивал свои прекрасные планеты, которые провели ночь на орбитах во чреве коня, его отцу выпадала крупица покоя, словно кроха сахара, подслащавшая весь день. Конечно же, он – его сын, конечно, он и есть сама жизнь, конечно, он стоил всего этого! И пусть они несхожи обликом, они – одно целое: он и сын. Все, что было внутри него, – было и в нем.
И вот он лежал на подушке, и улыбался своим большим лицом, и восхищался тем, как его сын восхищается миром, который стоял здесь же в углу, со своими по-космически толстыми губами.
38
Тун – на исландских хуторах сенокосный луг перед жилым домом или вокруг него.
39
В описываемое время Исландия входила в состав Королевства Дании, и датский был там языком высших сословий, торговцев и чиновников (среди которых действительно преобладали датчане). В исландских семьях, близких к этим кругам, было заведено по воскресеньям говорить по-датски.
40
Большинство исландских переселенцев в Америку было бедняками, находящимися на попечении сельских общин. (Некоторых из них эти общины отправляли на новые земли, стремясь избавиться от нахлебников.)