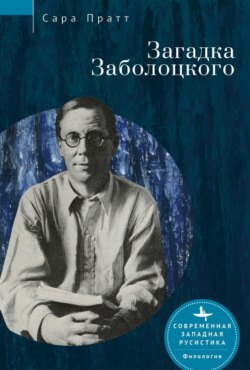Читать книгу Загадка Заболоцкого - - Страница 5
Глава вторая
Устроение личности
РЕЛИГИОЗНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
Оглавление…и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу»…, слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.
Заболоцкий. Ранние годы
Помимо ощущения своего промежуточного положения в мире, с ранних лет до конца жизни Заболоцкого отличали и другие черты: в первую очередь метафизическое и религиозное переживание высшего смысла, пронизывающего здешнюю жизнь, и чувство причудливого, в котором сочетались любознательность, мягкая ирония, бунтарство и литературное остроумие. Первому особенно способствовало его сельское происхождение, второму – чаяния, побудившие его переехать из деревни в город.
Что совершенно необычно для советского писателя, о своем религиозном воспитании Заболоцкий пишет довольно подробно, более или менее позитивно и с воодушевлением. На этом основании можно предположить, что это воспитание довольно значительно повлияло на его становление в детские годы. Даже после уроков, полученных в лагере, он не забыл своего религиозного образования и включил его в мемуары, несмотря на политические соображения.
Он никогда не делает четких заявлений о своей вере или неверии. Однако описание религиозного опыта у него контрастирует с подобными описаниями у других советских писателей, будь то опыт персонажа книги «Как закалялась сталь» Павла Корчагина, предположительно отразившего черты Николая Островского, или опыт Андрея Платонова, чье сходство с Заболоцким уже отмечалось. И у Платонова, и у Островского религиозное образование описывается в лучшем случае как нечто ненужное, в худшем – как зло, и оно всегда в тягость. В их глазах главное достоинство церковно-приходской школы было в том, что учителя-вероотступники могли пробудить в учениках первые проблески революционного сознания31. Законоучители юного Заболоцкого в его описании мало похожи на образцы святости: отец Сергий из приходской школы в Сернуре особенно запомнился своей склонностью ставить непослушных учеников в угол на горох, а отец Михаил из уржумского реального училища описывается как «удивительный неудачник», которого «ни во что не ставили» [Заболоцкий 1972, 2: 210, 216]. Однако в то же время они внесли свой вклад в создание среды, в которой мальчик оттачивал духовные инструменты и взращивал интуиции, впоследствии вновь и вновь служившие ему.
Само собой разумеется, что начальное духовное развитие Заболоцкого не имело ничего общего ни с изысканной эстетизированной религией символистов, ни с богословской утонченностью религиозных слоев городской интеллигенции. Его религиозная чувствительность произросла из доморощенного провинциального, крестьянского православия. Принимая во внимание интерес семьи Заболоцкого к образованию, свидетельствующий о ее движении от крестьянства к провинциальной интеллигенции, можно быть уверенным, что в основах религии будущий поэт разбирался более основательно, чем окружающие крестьяне. Но в то же время в основе этого понимания лежало неоспариваемое, неисправимое, традиционное сельское православие, способное вобрать в себя и примеси языческих народных верований, и крестьянский утопический мистицизм и, в конечном итоге, элементы марксистской мысли. К большому огорчению церковных властей, из этой разнородной пряжи состояла ткань духовной жизни русской деревни32.
Если, как сообщает Заболоцкий, его «отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности» и он был «умеренно религиозным», в семье, скорее всего, было принято ежедневное молитвенное правило и более-менее регулярное посещение церкви [Заболоцкий 1972, 2: 208]. Более того, мальчик, несомненно, изучал Закон Божий как в приходской школе в Сернуре, так и в уржумском реальном училище. Поэт помнит не только вступительные экзамены в реальное училище по Закону Божию, но и (более 40 лет спустя) короткий молебен, с которого начинался каждый учебный день: зал с огромным портретом царя в мантии в золотой раме; хор, стоящий перед учениками с левой стороны; пение молитвы «Царю Небесный» «каким-то младенцем-новичком»; священник отец Михаил, страдающий флюсом, читающий дрожащим тенорком главу из Евангелия; и заключительное пение гимна «Боже, царя храни» [Заболоцкий 1972, 2: 210, 213]. Заболоцкий вспоминает и об обязательном посещении всенощной и обедни по субботам и воскресеньям и о том, как прислуживал алтарником в соборе. Это послушание, помимо зажигания и тушения свечей, давало возможность, к большому удовольствию действующих лиц, потягивать украдкой «теплоту» (разведенное вино) и передавать записки от мальчиков из реального училища гимназисткам и обратно [Заболоцкий 1972, 2: 220].
Однако ни участие в шалостях, ни дрожащий тенорок священника с флюсом не могли полностью разрушить религиозные переживания Заболоцкого. Описывая свое детство в Сернуре, поэт вспоминает одноклассника Ваню Мамаева, выходца из бедной семьи, которому доверили участвовать в обходе села с чудотворной иконой. Зима была холодной, и Ваня, в худой одежонке, с утра до ночи ходил по домам с монахами, которые несли икону. «Бедняга замерз до полусмерти, – пишет Заболоцкий, – и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью» [Заболоцкий 1972, 2: 210]. Возможно, повзрослевший Заболоцкий и внес в этот эпизод нотку самоиронии – ведь, на первый взгляд, довольно глупо завидовать тому, кто замерз до полусмерти и получил взамен только картинку. Очевидно, однако же, что ребенком Заболоцкий отнесся к случившемуся со всей серьезностью и искренне завидовал религиозному самопожертвованию маленького Вани и его награде.
Пожалуй, самое глубокое выражение детского религиозного опыта Заболоцкого мы находим в его описании всенощной. И здесь опять-таки повзрослевший автор, возможно, передает некоторую наивность веры мальчика, но все же этому отрывку скорее свойственна сладкая ностальгия по самому себе в юности, чем самоирония:
…тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья [Заболоцкий 1972, 2: 220].
Наш главный источник сведений о детстве Заболоцкого – его собственные воспоминания, «Ранние годы», – описывает его жизнь только до начала Первой мировой войны. По понятным причинам, письменных обсуждений религиозного опыта Заболоцкого в послереволюционный период не существует. Известно, однако, что некоторые православные традиции живо сохранились в его памяти. Например, в письме Касьянову в 1921 году он тепло вспоминает о Рождестве у себя дома:
Сегодня я вспомнил мое глубокое детство. Елку, Рождество. Печка топится. Пар из дверей. Мальчишки в инее. – Можно прославить?
Лежал в постели и пел про себя: – Рождество Твое Христе Боже наш…
У дверей стояли студентки и смеялись… [Заболоцкий 1972, 2: 228].
Заболоцкий завершает письмо предложением Касьянову приехать к нему «на Рождество», хотя теоретически Рождество отменили четырьмя годами ранее.
Сосед молодых поэтов по комнате рассказывает о другом случае, происшедшем несколько лет спустя. На спонтанном празднике с общим пением исполнялись не только вполне предсказуемые «Вечерний звон» и «Вниз по матушке, по Волге», но также духовные песнопения: «Хвалите имя Господне…», «Се Жених…» и «Чертог Твой…». Хотя сосед по комнате подчеркивает, что религиозных наклонностей у импровизированных певчих не было, он тем не менее добавляет, что песнопения выходили вполне хорошо [Сбоев 1977: 43–44].
Религиозное образование влияло на творчество Заболоцкого достаточно долго, – это очевидно из временно́го разброса нескольких написанных и запланированных работ на откровенно религиозные темы. Еще в 1921 году 18-летний Заболоцкий подробно пишет Касьянову (в письме в стихах, ни больше ни меньше) о своей работе над драмой «Вифлеемское перепутье» [Касьянов 1977: 40–41]. Никаких указаний на судьбу этой драмы у нас нет, но не исключено, что к ней имеет отношение отрывок, написанный примерно десятью годами позже, под названием «Пастухи». Это краткая инсценировка встречи ангелов, возвещающих Рождество Христово, группы натуралистически изображенных, бестолковых пастухов и говорящего (или по меньшей мере думающего вслух) быка.
Эта авангардная, на первый взгляд, трактовка Рождества на самом деле уходит корнями в древнерусскую культуру, и в частности – опирается на рождественскую пьесу религиозного писателя XVII века святого Димитрия Ростовского (Туптало), к которому Заболоцкий проявлял явный интерес. Как и в отрывке, написанном Заболоцким, в пьесе святого Димитрия Ростовского пастухи изображены натуралистически. Что примечательно, в произведение на серьезную, возвышенную религиозную тему святой Димитрий вводит реалистические и комические элементы. По словам Д. Святополк-Мирского, пьесы святого Димитрия «…причудливо барочны в своем странно-конкретном изображении сверхъестественного и смелом привлечении юмора, когда речь идет о высоких предметах» [Святополк-Мирский 2005: 88]33. И святой Димитрий, и Заболоцкий, скорее всего, своей основной концепцией в чем-то обязаны также русским православным иконам Рождества Христова, живописное содержание которых сосредоточено на скромных обстоятельствах рождения Христа, а четко заданный иератический стиль указывает на высший смысл [Лосский, Успенский 2014: 237–245; Baggley 1988: 122, 142].
Кроме того, на стихотворение Заболоцкого вполне могли повлиять изображения детских лет Христа кисти авангардного художника Павла Филонова, которым он сильно восхищался и у которого брал уроки рисования в 1920-х годах. Филонов совершил паломничество в Палестину и написал несколько икон в традиционном стиле, но здесь подразумеваются авангардные картины Филонова. Обращаясь к исполненным религиозным смыслом сюжетам, таким как «Святое Семейство», «Поклонение волхвов» и «Бегство в Египет», Филонов применяет целенаправленные искажения и «примитивизм», характерные для большей части русского авангардного искусства34. Самобытно живописуя Рождество, Заболоцкий, как и во многих других случаях, олицетворяет смешение культур послереволюционной России, заимствуя одновременно и у авангарда, и у православия, энергично двигаясь в будущее, будучи при этом прочно привязанным к прошлому.
К этому же периоду относится довольно таинственное замечание друга Заболоцкого Леонида Липавского, касающееся дальнейших размышлений поэта на тему Рождества: «Удивительная легенда о поклонении волхвов, – сказал Н. А. [Заболоцкий], – высшая мудрость – поклонение младенцу»35. Липавский, однако, далее ничего не поясняет, и для предположений о литературном творчестве, проистекшем из этих мыслей, нам не на что опереться, кроме «Пастухов».
В 30–40-е годы Заболоцкий написал ряд философских стихотворений и поэм, затрагивающих тему бессмертия, в которых смешиваются религиозные и научные концепции, однако откровенно религиозной тематики и символики поэт избегает. Самыми яркими из них, пожалуй, являются поэмы начала 1930-х годов. В «Торжестве земледелия» широко и весьма своеобразно рассматриваются вопросы бессмертия и коллективизации советского сельского хозяйства. Из-за диковинности некоторых представленных идей, вкупе с эксцентричностью поэтического стиля раннего Заболоцкого, поэма создавала впечатление, что поэт пародирует благородную советскую идею коллективизации. Поэтому поэма «Торжество земледелия» стала одним из ключевых элементов кампании против Заболоцкого, а также одним из наиболее тщательно изученных произведений поэта. В другой его длинной поэме, «Безумный волк», карикатурно, но от этого не менее философски изображается серьезный Безумный Волк, представляющий собой нечто среднее между Фаустом и юродивым, или, возможно, самим Иисусом Христом36.
В свете всего этого неудивительно, что в шкафу вместе с другими книгами, которые Заболоцкий считал «необходимыми для работы», он хранил и Библию. Среди этих книг были издания Пушкина, Тютчева, Боратынского, Лермонтова, Гёте, Гоголя, Достоевского, Байрона, Шекспира, Шиллера, Мольера и некоторые другие. И еще менее удивительно то, что именно Библия была одной из книг, конфискованных при аресте поэта в 1938 году [Заболоцкий Н. Н. 1998: 221, 260].
В 1950-е годы Заболоцкий снова обратился к одной из сторон рождественской темы в трактовке святого Димитрия Ростовского и Филонова, на этот раз в стихотворении «Бегство в Египет». Как и в большей части работ Заболоцкого этого периода, в стихотворении изображается повседневная жизнь, быт. Однако, в отличие от остальных работ, у этого произведения есть еще один уровень с явно религиозным смыслом. Здесь поэт изображает себя самого больным, за которым ухаживает кто-то, кого он называет своим «ангелом-хранителем». В бреду он наслаждается блаженным сновидением, будто он – Младенец Христос. Когда он узнает, что Святое Семейство должно вернуться в Иудею, то просыпается с криком ужаса, но вновь успокаивается, видя «ангела-хранителя», сидящего у его постели. Пожалуй, самое поразительное в стихотворении – это переплетение метафоры и реалий. Бегство в Египет с библейской точки зрения «реально», но здесь оно – часть метафорического сна. «Ангел-хранитель» здесь – реальный человек, но также и религиозная идея. И хотя в целом стихотворение представляет собой «реалистичное» повествование, а не молитву, первые его слова «Ангел, дней моих хранитель…» напоминают урезанное, осовремененное начало русской православной молитвы ангелу-хранителю: «Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего…» [Заболоцкий 1972, 1: 287; Божественная литургия 1960: 286–287].
Среди любимых произведений Заболоцкого, которые он переписал в записную книжку и читал друзьям в последние десять лет жизни, были два из еще не опубликованных религиозных «стихотворений Юрия Живаго» Пастернака. Одно из них, «Рождественская звезда», – это рождественское стихотворение, своим сочетанием натурализма и высокого религиозного смысла отчасти напоминающее «Пастухов» Заболоцкого и «Рождественскую драму» святого Димитрия Ростовского. Вспоминают, что Заболоцкий был восхищен этим стихотворением, сравнивая его с картинами старых фламандских и итальянских мастеров, «изображавших с равной простотой и благородством “Поклонение волхвов”» [Степанов 1977: 100]37. В другом стихотворении Пастернака, «На Страстной», изображена неделя перед Пасхой во взаимном переплетении церковных служб и весенней оттепели. Своим обращением к природе и предельной сосредоточенностью на вопросе бессмертия это стихотворение резонирует с собственными размышлениями Заболоцкого, особенно отразившимися в его творчестве конца 1930–1940-х годов.
Наконец, на момент смерти Заболоцкий работал над трилогией «Поклонение волхвов» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 205; Заболоцкий 1972, 2: 295]. На листе бумаги, лежащем у него на столе, остался начатый план:
1. Пастухи, животные, ангелы.
2. _______________________
Второй пункт остался пустым. Обычно предполагается, что в трилогию должен был войти более ранний отрывок «Пастухи»38. В любом случае этой трилогией завершился бы цикл его творчества, начатый «Вифлеемским перепутьем».
Несмотря на то что прямых утверждений или свидетельств о религиозных настроениях со стороны Заболоцкого нет, все-таки предположение о его вере достаточно весомо. К тому же, безусловно, он обладал тем, что можно было бы назвать хорошо развитой религиозной восприимчивостью. Свой детский религиозный опыт Заболоцкий посчитал достаточно значимым для того, чтобы сделать его одним из узловых пунктов своей наиболее подробной автобиографии, «Ранние годы», написанной всего за три года до смерти. Его детские воспоминания на тот момент вряд ли уже могли быть свежими, особенно если учесть все, что он пережил в промежутке – активное участие в ОБЭРИУ с его авангардистским эпатажем, брак и семья, жестокая критика, лагерь, ссылка и постепенное, осторожное возвращение к литературной жизни в Москве. Тем не менее он ясно помнил подробности своего религиозного воспитания, которые до конца жизни иногда выходили на поверхность его сознания, несмотря на разрушения, причиненные временем и сталинской политикой «воинствующего атеизма».
31
См. отрывок из автобиографии Платонова [Платонов 1922: vi]. Я признательна Томасу Зейфриду за предоставленную мне копию предисловия и за то, что он поделился своими обширными знаниями о взглядах Платонова на вопросы материи и духа. См. [Seifrid 1992; Островский 1984; Островский 1983 (начальные страницы)].
32
См. [Freeze 1983; Ivanits 1989; Hubbs 1988; Masing-Delic 1992].
33
См. также [Полякова 1979; Karlinsky 1985; Segel 1967].
34
О Филонове см. в [Misler, Bowlt 1984], особенно иллюстрации № 28, «Волхвы» (1913), № XIX, «Бегство в Египет» (1918), а также разнообразные изображения Филоновым Святого Семейства. Об иконах Филонова и его паломничестве в Палестину см. в [Podmo 1992: 174–176]. Об отношениях Филонова и Заболоцкого см. в [Максимов 1984б: 128; Синельников 1984: 104; Goldstein 1989; Goldstein 1993: 38–42].
35
«Из записей Л. С. Липавского», цит. по: [Липавская 1977: 51].
36
См. [Goldstein 1993], глава 4 (чрезвычайно содержально обсуждение поэмы «Безумный волк»); [Masing-Delic 1992], глава 10; [Demes 1984].
37
Другие стихотворения, переписанные Заболоцким, – «Гамлет» (тема которого, пожалуй, даже более актуальна для Заболоцкого, чем для Пастернака), «Зимняя ночь» и «Объяснение». О сложном отношении Заболоцкого к Пастернаку см. в [Goldstein 1993: 85].
38
Рукопись «Пастухов» найдена среди бумаг 1958 года. Отрывок относят к 1930-м годам только по стилистическим признакам. – Примеч. ред.