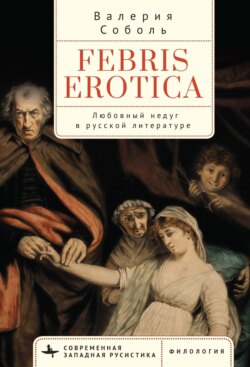Читать книгу Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе - - Страница 10
Часть I
АНАТОМИЯ
Глава 1
Анатомия чувств и проблема взаимодействия души и тела в русском сентиментализме
От сентименталистского синкретизма к романтическому дуализму
ОглавлениеОднако к концу эпохи сентиментализма в России происходит фундаментальный риторический и эпистемологический сдвиг в подходе к восприятию и отображению интенсивных эмоций и чувствительности в целом. На разных уровнях можно четко проследить тенденцию к разделению физической и духовной сфер, которые ранее считались едиными. Переоценка научного понятия чувствительности становится одним из главных признаков этого нового подхода. Ставится под сомнение посреднический характер этой концепции, которая ранее обеспечивала желанную основу для выстраивания взаимодействия тела и души. Постепенно пропадает увлечение физиологией, вытесняемое растущим опасением, что тенденция укоренять все порывы души в теле может свести человека к чисто телесному, материальному существу.
Сам Галлер осознавал опасность его физиологической теории чувствительности для религиозного мировоззрения. Его определение чувствительности лишено той ясности и точности, которые присущи его лаконичной формуле раздражительности. Причиной такой неясности со стороны благочестивого кальвинистского ученого был именно метафизический подтекст концепции чувствительности, а точнее – ее предполагаемая связь с душой. Показательно, что Галлер формулирует понятие чувствительности в гораздо более конкретных терминах, стоит только ему исключить из рассмотрения метафизическую душу: «А у животных, у которых существование души не столь очевидно, я называю чувствительными те части, раздражение которых вызывает у животного признаки боли и беспокойства» (цит. по: [Figlio 1975: 186–187]). В экспериментальных целях Галлер опирался на очень ограниченное понимание чувствительности, сводимое в основном к проявлениям боли и дискомфорта. Сужение определения позволило ученому лишить чувствительности многие жизненно важные органы (например, сердце). Как отмечает Анна Вила, такое ограничительное использование понятия чувствительности в научной практике Галлера связано с его религиозно-философскими взглядами:
Поскольку, согласно определению Галлера, чувствительность – это первичная сила души, она не может по-настоящему существовать в теле. Поэтому, будучи жизненно важным свойством, она располагается на границе физиологического исследования [Vila 1998: 25].
Таким образом, чувствительность получила привилегированную связь с душой, в то время как раздражительность осталась чисто телесным свойством. Эта иерархия двух жизненно важных качеств обладала огромным символическим потенциалом и привела к широкому культурному резонансу, который выходил далеко за рамки первоначальных намерений Галлера. Материалистически или позитивистски настроенные писатели полагались на раздражительность, чтобы подчеркнуть физическую природу человека, в то время как идеалисты или анимисты предпочитали ссылаться на «духовное» свойство – чувствительность. Во времена Галлера Жюльен де Ламетри использовал понятие раздражительности, чтобы свести человека к чисто материалистическому, механическому существу144. Его скандальная работа «Человек-машина» (1747), провокационно посвященная Галлеру, распространяет понятие мышечной раздражительности на ментальные операции, представляя тем самым не только тело, но и всего человека как машину, движение которой порождается ей самой. В этой системе, естественно, не остается места для души, которая могла бы оказывать какое-либо влияние на физическую или психическую сферу человека145. Другой современник Галлера, Роберт Уитт, настаивавший на соразмерном участии души во всех телесных операциях, напротив, отдавал предпочтение чувствительности; однако, в отличие от Галлера, английский врач утверждал, что чувствительность широко распространена в теле, а не ограничивается определенными органами146. Уитт, известный своей склонностью к анимизму, что интересно, не только расширил понятие чувствительности, но и «одухотворил» раздражительность, которую считал не природным свойством мышц, а результатом действия души. Другими словами, предпочтение авторами раздражительности или чувствительности часто свидетельствует об их философской позиции в отношении человеческой природы – тенденция, которая оказалась жизнеспособной вплоть до XIX века. Как я показываю в главе 3, в России 1840-х годов, когда термин «чувствительность» уже давно был скомпрометирован и затаскан сентименталистами и их эпигонами, а позитивизм выходил на передний план русской культуры, Александр Герцен использовал лексику раздражительности для описания более материалистической модели физиологии эмоций.
В западном сентиментализме против исключительно физиологического понимания чувствительности как телесной реакции очень рано выступил Лоренс Стерн. В восьмом томе «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена» Стерн, как предполагают критики, вступает в тонкую полемику с подобными взглядами на природу человеческих чувств. Разрыв волдыря на пятой точке дяди Тоби приводит его к выводу, что он влюблен. Дядя Тоби, как замечает Тристрам, превратно истолковывает свою телесную рану как рану любви и полагает, что «рана его не накожная – а прошла в самое сердце» [Стерн 1968: 485]. Джеймс Роджерс интерпретирует этот эпизод как критику Стерном упрощенного подхода, согласно которому телесные функции служат проявлением сокровенных чувств души. Для Стерна, как утверждает Роджерс,
…волдырь, или тело, не является автоматическим, механическим сигналом любви или любого другого чувства. Для возникновения чувства, основанного на симпатии, например, любви или благосклонности, ощущения тела должны сочетаться с мыслительным процессом, работающим в социальном контексте [Rodgers 1986: 141].
В конце первого десятилетия XIX века русская сентименталистская пресса подняла эту проблему в ряде публикаций, оспаривавших физиологическую трактовку чувствительности. Среди них – анонимное эссе «О чувствительности и добродушии», переведенное с французского и опубликованное в «Цветнике» в 1809 году. Автор статьи выражает свое недовольство традиционным научным определением чувствительности как «способности чувствовать»: «…ибо сия способность простирается на все царство животных, и даже на царство растений. Человек и насекомые, пресмыкающиеся под ногами его, имеют способностью чувствовать»147. Столь широкое и всеохватное определение чувствительности, предложенное, по словам автора, «оракулами последнего века», подразумевает, что любому живому организму можно приписать это качество, тогда как, по его мнению, оно должно оставаться исключительной привилегией человека. В поисках более подходящего определения писатель прибегает к историческому аргументу:
Тщетно прибегал я к древним; они не имеют в языках своих такого слова, которое выражало бы совершенно чувствительность: это есть новая выдумка, и я даже примечаю, что сие слово принято нами с того только времени, как стали изъяснять чувствования ощущениями148.
Таким образом, автор подчеркивает новизну как термина («слово»), так и понятия («новая выдумка») и их связь с настоящим историческим моментом. Его акцент на явно современном характере понятия чувствительности позволяет найти более удовлетворительное объяснение, данное «мудрейшими из мудрецов нашего времени»:
Чувствительность, говорят они, есть расположение души, которое делает оную способною умиляться, трогаться. Это изъяснение мне кажется лучше других: оно, по крайней мере, не ставит человека наравне с произрастениями и не столько унижает его пред собственными его глазами149.
Эти два определения, которые автор представляет как исторически последовательные, на деле соответствуют двум различным, но сосуществующим значениям термина «чувствительность», зафиксированным в словарях того времени. «Dictionnaire de l’Académie Française» (1762) различает первичное, галлеровское определение чувствительности и моральную чувствительность, «sensibilité du Coeur»150. Это семантическое различие сохраняется и в «Словаре Академии Российской», который дает следующие толкования понятия «чувствительность»:
1. Движение души, возбужденное или возбуждаемое в оной чрез впечатление действующих на чувственные орудия внешних предметов. 2. Сострадательность; качество трогающегося человека несчастием другого. Чувствительность сердца [Словарь Академии Российской… 1806–1822, VI: 1318].
Что характерно, только второе, моральное определение напрямую упоминает человека и, значит, представляет чувствительность как исключительно человеческое качество. Таким образом, автор эссе из «Цветника» делает показательную попытку развести два синхронных понимания чувствительности и представить их как конфликтующие понятия, в которых «моральная чувствительность» хронологически заменяет «физическую». Новое определение, согласно его аргументации, также более точное: так утверждается превосходство морального понимания чувствительности. Следует подчеркнуть, что автор осведомлен о физиологической основе «современного» понятия чувствительности: он справедливо возводит его происхождение к сенсуализму, к теориям, которые «стали изъяснять чувствования ощущениями». Вместе с тем он предпочитает игнорировать этот факт и отдает предпочтение нефизическому и явно ненаучному определению чувствительности как определенной эмоциональной предрасположенности души. Очевидно, что такой выбор автора обусловлен его философской позицией, которая требует определения, подчеркивающего нематериальную природу феномена чувствительности и гарантирующего привилегированное духовное положение человека в живом мире.
Один из главных аргументов против «физического» определения чувствительности, приведенного французским писателем, заключается в том, что такое понимание включало бы в себя низшую форму органической жизни – растения. «По сему определению чувствительность есть и в растениях: не-тронь-меня, или жизненная травка (Mimosa sensitiva) может служить тому доказательством»151. Mimosa sensitiva, или «чувственница», как называет ее Радищев, часто появляется в научных и философских дискуссиях того времени как спорный случай растительной чувствительности: считалось, что растение увядает от малейшего прикосновения [Радищев 1938–1952, 2: 88]. Этот факт, очевидно, вызвал определенный дискомфорт по поводу осознания места человека в живом мире и побудил некоторых авторов пересмотреть определение чувствительности как не столько биологического, сколько духовно-нравственного свойства. Радищев находит любопытное решение этой дилеммы – он предлагает считать, что растения, занимающие более низкое положение на лестнице живых существ по сравнению с животными и человеком, обладают раздражительностью, а не чувствительностью: «…растение есть существо живое, а может быть – и чувствительное, … но чувственность сия есть другого рода, может быть, одна токмо раздражительность» [там же: 46]. Аргументируя слабую (если она вообще существует) степень чувствительности у растений, он считает необходимым подчеркнуть, что даже знаменитое «чувствительное» растение на самом деле лишено этого свойства: «…и самая чувственница из сего не исключается» [там же]. Такой подход явно опирается на галлеровскую иерархию жизненных свойств: здесь чувствительность – прерогатива высших, более рациональных и духовных существ, тогда как раздражительность можно наблюдать даже у низших форм жизни.
Аналогичная проблема лежит в основе критики Мишо в адрес дидактической поэмы «Любовь растений» (1789), написанной дедом Чарльза Дарвина Эразмом Дарвином (1731–1802)152. Эссе Мишо, опубликованное в «Аглае» Шаликова в 1810 году, высмеивает английского поэта-врача за распространение понятий чувствительности, любви и секса на мир растительности.
Уже цветы влюбляются, разговаривают; они кончат тем, что станут писать друг к другу, и мы увидим романы в письмах, которые будут растрогивать нас несчастиями Резеды или Ландыша153.
Несмотря на шутливый тон, выпад французского писателя поднимает серьезную философскую проблему: Мишо на деле выступает против тезиса Дарвина об органическом единстве разума и природы, характерном для монистического мировоззрения XVIII века154. Француз прекрасно понимает, что идея о способности растений любить имеет долгую историю155. Однако его волнует значение этой идеи прежде всего для современности:
Мысль о поле растений не есть новая; но никогда не говорили о нем столько, как теперь, и можно угадать причину… К чему же хотят привести нас? К удостоверению, что материя мыслит, чувствует, и что человек, мыслящий и чувствующий, есть также материя156.
Такая «сентиментализация» природы в целом, полагает Мишо, угрожает представлению о человеке как об исключительном существе, наделенном бесплотной душой.
Подобное недоверие к физиологической природе чувствительности высвечивает общекультурный процесс, в ходе которого сентименталистский монизм, вера в тесный и физический союз тела и души, уступил место предромантическому, а затем романтическому дуализму157. Этот переходный момент в истории русской культуры показывает, что сентименталисты, которых обычно представляют как непосредственных и естественных предшественников романтиков, на самом деле оперировали совершенно иными философскими предпосылками и стремились установить связь между физической и духовной сферами, а не противопоставить их. Попытки сентименталистов укоренить проявления чувствительности в анатомических органах (научно, философски и риторически) демонстрируют их глубокую озабоченность телом как очагом и проводником утонченной чувствительности и указывают на их тесную связь с научным духом эпохи Просвещения158. Более того, сложная анатомия эмоций, разработанная Карамзиным, Радищевым и многими другими в их стремлении преодолеть бинарность «душа – тело» предвосхищает антидуалистический пафос «реалистов» 1840-х годов. Те, в свою очередь, (например, Герцен и Гончаров) обращались к древнему топосу любви как болезни и, в частности, к его диагностической традиции, чтобы более эффективно противостоять романтическому расколу между идеальной/духовной и материальной сферами.
144
Ламетри был знаком с понятием раздражительности, благодаря догаллеровским исследованиям этого свойства Фрэнсисом Глиссоном; см. [Меркулов 1981: 62].
145
Вила также интерпретирует выбор Ламетри раздражительности вместо чувствительности как «стратегический»: «Из двух реактивных свойств, которые Галлер выделил в теле, только раздражительность была полностью телесной» [Vila 1998: 26].
146
Подробнее о споре Уитта с Галлером см. в [French 1969: chap. 6].
147
О чувствительности и добродушии // Цветник. 1809. Ч. 2. № 6. С. 323.
148
Там же. С. 323–324.
149
Там же. С. 324. Не совсем понятно, кого автор имеет в виду под «оракулами последняго века» в отличие от «мудрейших из мудрецов нашего времени». Мы не знаем, был ли оригинал статьи написан в конце XVIII или в начале XIX века, но последнее более вероятно; в этом случае «оракулы последняго века» – философы и ученые-сенсуалисты XVIII столетия.
150
Чувствительность сердца (фр.). См. [Кочеткова 1994: 18].
151
О чувствительности и добродушии // Цветник. 1809. Ч. 2. № 6. С. 323.
152
В журнале не указано имя автора, но, скорее всего, это Андре Мишо (1746–1802), французский ботаник и исследователь. Также это мог быть его сын, Франсуа Андре Мишо (1770–1850), также ботаник. Однако, поскольку поэма Дарвина была опубликована в 1789 году, на нее скорее откликнулся отец, чем его 19-летний сын. Французский историк Жозеф-Франсуа Мишо (1767–1839) – менее правдоподобный автор этой статьи, чем два ботаника.
153
Мишо. О любви растений // Аглая. 1810. Ч. 11. Кн. 3. С. 32.
154
Морин Макнил анализирует стремление Дарвина объединить науку и литературу, а также философский и социальный контекст такой попытки. См. ее эссе «The Scientific Muse: The Poetry of Erasmus Darwin» в [Jordanova 1986: 156–203].
155
Р. Бертон в своей «Анатомии меланхолии» приводит многочисленные анекдоты о влюбленных растениях и, в частности, о влюбленных пальмах, «готовых умереть и зачахнуть» [Burton 2001, 3: 43].
156
Мишо. О любви растений // Аглая. 1810. Ч. 11. Кн. 3. С. 32.
157
Вила упоминает об этом переходе во введении к своей книге о чувствительности, но не развивает данное наблюдение: «Чувствительность в том смысле, который придавало ей Просвещение, не исчезла в течение XIX века; скорее, она распалась на ряд дискретных наследий и уступила свое ранее неоспоримое первенство таким новым понятиям, как volonté, vie de relation и обновленный дуализм романтического спиритуализма» [Vila 1998: 10]. Однако некоторые романтики (особенно в Англии и Германии) стремились преодолеть дуализм не менее настойчиво, чем их современники, русские сентименталисты. О поисках романтиками единства см. в [Abrams 1971: esp. 179–183]. Алан Ричардсон в своем глубоком исследовании указывает на озабоченность британских романтиков единством тела и души и напоминает о слишком часто игнорируемом «антидуалистическом, материалистическом регистре в романтической литературе» [Richardson 2001: 36]. Этот «регистр», будучи заметным в русском сентиментализме, как мы видели, был менее влиятельным в русской романтической литературе, которая (за исключением метафизической поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета и прозы В. Ф. Одоевского) унаследовала в основном «байронический» вариант западного романтизма. В любом случае, как будет показано в последующих главах, русская антиромантическая кампания 1840-х годов сосредоточилась прежде всего на дуализме как определяющей черте романтической чувствительности.
158
Исследователи отмечают важность идей Просвещения для русского сентиментализма. Информативный обзор см. в [Кочеткова 1994: 24–74]. Однако в таких анализах, включая исследование Кочетковой, роль науки в восприятии сентиментализмом идей Просвещения обычно не рассматривается.