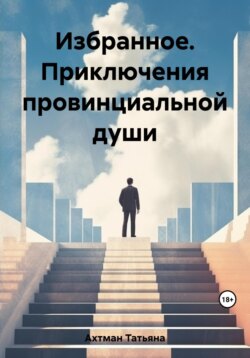Читать книгу Избранное. Приключения провинциальной души - - Страница 10
Жизнь и приключения провинциальной души
Вечный приют
ОглавлениеПриснился сон, будто пришла пора рожать, и я в комнате – тихой, чистой, просторной, с высокими потолками и белыми стенами. Вместе со мной ещё одна женщина, уже родившая ребёнка. Она не молодая и не ухоженная – видавшая виды, а младенец – чудесный и даже, как будто, светится. Я любуюсь им и верю, что и у меня будет такой же. Собственно, я уже принесла его, и нужно только правильно совершить церемонию рождения. И вот приходит акушерка – милая, добрая, всё понимающая, и мы приступаем… Но тут распахивается дверь и вваливается толпа орущих, ругающихся людей. Они торгуются о чём-то, толкаются, подминают собой всё здесь приготовленное – такое важное… Акушерка исчезает, и я кидаюсь выгонять их. Кричу чужим голосом, делаю свирепое лицо, как дети корчат страшные рожи. Наконец, они обращают на меня внимание, мол, это ещё что? Куражатся, специально разбрасывая моё… Тут я кричу ещё страшней, глядя на себя со стороны с изумлением, и они, похоже, пугается, отступает, все теснятся в коридор, и тут я теряю своего ребёнка, бросаюсь на них, и главный говорит, мол, ладно, бери – и протягивает мне свёрток…
Потом сон сминается в другой, и в нём я – на крыше высокого дома. Площадка крыши – метровый квадрат, и дом качается, как стебель на ветру, и я знаю, что спасение – в полёте. Знаю, что умею летать, и нужно только вспомнить, сосредоточиться и не бояться, как в воде… Я отталкиваюсь от крыши и опираюсь на волну воздуха. Она не так ощутима, как вода, но я чувствую её, и это чувство – единственное, что держит меня высоко вверху. Я, как будто, слышу воздух, страх проходит совсем, и я, вначале неловко, а затем всё уверенней управляю полётом, стремясь подальше от людных мест. Светает, я покидаю город и спускаюсь к лесу, который кажется мне большим и дремучим…
Необитаемый, почти круглый песочный островок в обрамлении серебряного свечения ив, лунного даже под полуденным солнцем, возник вопреки, как и всё хорошее в прежней моей жизни. Добираться нужно было двумя автобусами. Первый долго полз между бесконечными пыльными заборами заводов к центру, где асфальт дымился с утра, а навстречу ему дымилось рыжее металлургическое небо. Второй был ведомственный, то есть, не для нас (обычные автобусы ходили только на городской пляж – металлургический). Мы отрешенно просачивались внутрь и усаживались пирамидкой даже если рядом были свободные места, и я сосредотачивалась на обмане в случае облавы: «Мойсупругизведомства». Дети сидели на мне тихо-тихо, под ногами съежилась сумка с черешней. Но вот, автобус закрывал двери и трогался, пирамидка на коленях тепло тяжелела, две доморощенно стриженые головы довольно утыкались носами в стекло, и я привычно пробиралась подо лбами рукой, чтобы не бились на ухабах.
В будние дни на нашем пляжике было безлюдно. У него была сложная география: в центре дюны рос букет высоких трав, с одной стороны в реку уходила золотая песчаная коса, а за ней был глубокий залив, и там, в естественной гавани, мы строили укрепления и помещали свой флот.
Однажды мы купили резиновую лодку. Это был второй личный транспорт, после санок. Мы надули лодку посредине комнаты, я уселась в неё с детьми, взяла вёсла и помахала сидящему на диване мужу. Мы распевали неаполитанскую песню про лёгкую лодку с большими вёслами, за окном падал снег. Летом наша лодка была спущена на воду, и речное зазеркалье стало ещё прекрасней. Мы проникали в глубину плавней, в лабиринт речных протоков – влажных туннелей, сплетённых из зелёных лиан и птичьих криков. По воде плыли лилии, мы висели между отражениями воды и неба, теряя грань между воздухом, водой – становясь одним, чувствуя невесомость, мудрея пониманием полёта, умением отдаваться миру так, чтобы он… принимал.
Милосердие – единственное, что поддерживает в жизни, когда нет опоры для ног, и шаг в никуда неизбежен; когда изверилась, и не на что надеяться, когда жалость к себе становится сильней, чем к тому, кого любишь, я покидаю предавшее бытие и доверяюсь милосердию невесомости. Спускаю поводья и иду ли, лечу… или замираю без движения, прислушиваясь к слову.
И оно возникает в сознании, увлекая к счастливым мгновениям, которые сумела осознать однажды – когда не наблюдала часов, не замечала хода времени, и оно сливалось в единый миг, объединённый мною, биением моего сердца, ходом моих мыслей, попавшими в такт жизни вселенной. На острове своего прекрасного мгновения я нахожу пристанище, отдых и силы, чтобы продолжать жить и понимать. Когда островов становится много, то возникают материки и океаны – становится видна моя планета, летящая среди иных.
Должно быть, у каждого есть свой сундучок счастливых воспоминаний и свой "Ящик Пандоры", где хранятся жуткие привидения. Теперь, когда мой марафон позади, когда за окном моей комнаты всё та же сосна, пытаюсь… убрать свою планету, протереть влажной тряпочкой свой баобаб, перетрясти сундуки, данные мне в наследство и те, что набила сама доверху кое-как – в спешке марафона. Не хочу завещать своё добро… и зло… неприбранным, сваленным в кучу, как получила сама, и как получили мои мама, папа и мои близкие, пережившие катастрофу забвения.
Должно быть, чтобы разминуться с иными судьбами, не умножив зла, не достаточно просто перестать звонить или приходить на могилу. Должно быть, нужно понять границы своей судьбы, чтобы суметь хотя бы сторониться, не вовлекая других в беспредел своих переживаний и не позволяя безответственно увлечь себя из своей судьбы. Так я понимаю "не убий" – в осознании себя – своей природы и судьбы, когда физическая жизнь – только частность, не исчерпывающая целого – с его баобабом и сундуками – планеты, летящей среди иных.
* * *
Мы сидели по горло в воде под перевёрнутой лодкой, устроив себе волшебный грот, из которого можно было вынырнуть под ослепительное солнце, а можно было вернуться в зелёный сумрак и прохладу зазеркалья. Поднырнуть и восхищённо распахнуть глаза, обращённые друг к другу в общем понимании. Мы были счастливы тогда вместе.
Прошло много лет и много мучительных недоразумений, когда мы надолго переставали понимать друг друга, но островок, где мы были счастливы, остался. Теперь это наш вечный приют, куда можно прийти врозь или даже всем вместе и отдохнуть от одиночества, неизбежного для осознающих себя. Вечный приют… – без Воланда, созданный нами, материализованная иллюзия, наше творение, когда, быть может, мы сумели ощутить Божий замысел.
* * *
Впервые прочесть роман Булгакова удалось, когда мне было почти тридцать. Прежде перепадали лишь какие-то самодельно отпечатанные отрывки вперемешку с невнятными слухами. Тогда мы читали Фолкнера, Воннегута – всё, что печаталось в журнале "Иностранная литература", который переплетали, превращая в домашнюю библиотеку. Из «иностранки» узнавали фамилии, как-то пытались искать литературу, плохо понимая, что руководит нами – просто потому, что иначе "не может быть никогда".
Книжные страсти в начале восьмидесятых достигли своей кульминации. Художественная литература резко подорожала и исчезла с прилавков. Единственным источником стали спекулянты и «макулатура», то есть ненужная бумага (20 кг) менялась на талон в специальных пунктах, и по этому талону можно было купить определённую книгу. Страну охватила макулатурная лихорадка. Всё катилось к чёрту, а народ азартно охотился за талонами, пересчитывался в очередях, перетаскивал на себе кипы бумаги, безропотно принимая всё более изощрённый информационный беспредел. Помню, у четырёхтомника Джека Лондона было два вида обложки: серая и голубая. Возможность выбора множила страсти, которым взрослые и очень занятые люди, обременённые множеством проблем, отдавались куда полнее, чем их дети, собирающие «плиточки» – керамические квадратики, которыми облицовывали дома – тогдашние заменители фантиков. В особой цене были книги Дюма и плиточки глубокого фиолетового тона.
В то время я работала в электроотделе «Гипрометаллург». Нас было около двадцати женщин и начальник – подлец Серёня – врождённый предатель, трус и профессиональная шестёрка. В молодости он на чем-то играл, но не удержался в музыкантах, и какой-то дядя пристроил его сутенёром к инженершам. В электричестве он ничего не понимал и просто валялся на столе, подрёмывая и покрикивая что-то вроде "пошевеливайся".
Подружка, бывшая соученица по институту, что привела меня устраиваться на работу, сделав круглые глаза в сторону Серёни, шепнула: "Это наше г-но". И новые мои коллеги, соседки по кульманам справа и слева, тоже, представившись, каждая, с видимым удовольствием, представила и начальника: "А это наше г-но." И я, придя домой и рассказывая о своих первых впечатлениях, в нужном месте сделала круглые глаза и сказала со значением: "А начальник там – г-но." – выговорив новое в моём лексиконе слово с запинкой, как выговариваю и по сей день…
Я влюбилась в это слово. Оно несло правду жизни и позволяло не входить в подробности неразрешимых обстоятельств. Оно заменяло собой недосягаемый этический пилотаж о добре и зле. Было понятно, что серёни – г-но, а несерёни – наоборот, и то, что делают серёни – зло, а несерёни – добро, и с этим можно жить, то есть, работать в «гипрометаллургах», бегать по магазинам и отдаваться макулатурным страстям. Тогда, нокаутированная обстоятельствами, я обрела свой первый спасительный этический компромисс. Родившись с неким психическим отклонением, я, например, не переношу матерщину. Так, о существовании феномена мата лет до двадцати просто не подозревала. Видимо, избирательность моего слуха и, вообще, восприятия мира была врожденно бескомпромиссной, и любезный моему сердцу и разуму компромисс благоприобретён в мучениях и потому претендую на взаимность, что опять ведёт к одинокости…
Так вот, я долго просто не слышала мата. Однажды мы устроились с подружкой на берегу речки Московки в Дубовой роще, когда к нам подплыла лодка с двумя мужиками, и они позвали покататься. Мы с Ленкой были глупы и склонны к авантюрам, но, слава богу, всё же отказались. Мужики продолжали что-то говорить, и я, не поняв, вежливо переспросила и опять, растерянно улыбаясь, сказала: "Простите, я не поняла, что вы сказали?" Мужики отчалили, Ленка с интересом смотрела на меня: "Ты чего тут изображала?". А потом, войдя в свою самую ехидную ипостась, загадочно сообщила, что дяди говорили очень плохие слова, которые нельзя повторять воспитанным барышням.
Короче, тогда, в свою эпоху нонконформизма, я возненавидела мат. Я была неспособна к нему органически, что не позволяло даже мимикрировать для общей пользы. Я никогда никому не делала замечаний, даже улыбалась, но при мне слова теряли свою лихость, в компании возникала неловкость – я удалялась, и меня не удерживали. Однажды, мучаясь своей чужестью, попыталась прорваться "в свои". Разогнавшись на "а вот у нас тут" начала, было, анекдот, где было нечто матообразное, но запнулась о физиономии слушателей, вытянутые в отраженном страдании, и смялась в неловкость. Жертвоприношение не состоялось, слава богу, и из этого «не», возможно, проклюнулась в дремучем моём сознании потребность компромисса, основанного не только на ногах.
Моя чуждость была столь естественна, что иногда даже не вызывала протеста, как это бывает в отношении с иноземцами, по понятным причинам не знакомыми с местными обычаями. В середине восьмидесятых я три года преподавала в ПТУ, и тамошние ученики, не знавшие иного языка, кроме мата, приспособились объясняться со мной «по книжному», и, пожалуй, это было моим единственным социальным достижением того времени. Впрочем, возможно, компромисс возник из моей общности с пэтэушниками: и я, и они – были маугли советских джунглей, но это иной рассказ.
Врождённое хамонеприятие, видимо, наследственное, должно быть, некий иммунитет психики. Никогда не матерился папа, а ведь он прожил свою молодость в самую трагическую четверть нашего жуткого века. Юношей учился в Ростове, зарабатывая на жизнь игрой на скрипке. Был он музыкант – самоучка, играл на всех доступных ему инструментах: пианино, скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре. Увлекался боксом и умел драться. Говорят, был душой компании и пользовался успехом у женщин. Однажды, в молодости, чуть было не женился. Вернее, даже женился, но сбежал со свадебного стола, обидевшись на что-то, оскорбившее его, и больше не вернулся. В тридцать три года ушёл на фронт. Всю войну был сапёром в боевых войсках, остался жив, дослужился до капитана. Из Германии вернулся в сорок седьмом и привёз пианино.
Ребёнком я слышала, как он играл. На пианино – громко и весело, а на скрипке – печально и страстно, закрыв глаза на скорбном лице. Он совсем не умел врать – его сразу выдавала детская извиняющаяся улыбка. Был страшно обидчив, очень страдал от антисемитизма, не умел приседать перед начальниками и делать карьеру. Помню, что ночами он стоял, склонившись над чертёжной доской, двигая рейсшиной. Это была «халтура» – "левая работа", которую брал домой, пытаясь заработать, но его часто обманывали, и мама не прощала – у неё был больший заработок и беспредельные амбиции. Папу она считала упрямым эгоистом и энергично перевоспитывала до самой его смерти – одинокой и мучительной.
Папа сломался задолго до того, как мы могли бы познакомиться – мы разминулись. Теперь мы с папой сверстники, а тогда ему было сорок пять, мне – пять, и не было милосердия. Пытаюсь понять теперь, как выглядела папина планета. Наверное, там было множество замечательных вещей, лежавших небрежной яркой грудой: «Чардаш» Монти, трофейное пианино с бронзовыми подсвечниками, вкуснейшие горячие пирожки с горохом из ростовского НЭПа, моя бабушка Галя, похожая на Жанну Самари, и, может быть, я? Был ли у нас с ним вечный приют? Нужно вспомнить – воссоздать, иначе, угодим в Пандоров Ящик – тоже вечный, в который уносит в несчастливые мгновения душевной слабости. У меня есть из чего воссоздавать – папа оставил мне стихотворение, написанное им в войну:
"Ночь без сна, часы раздумья вяло, медленно текут. Тяжело оковы жизни душу пылкую гнетут. Вверх посмотришь – тихо, ясно звёзды блещут, вдаль маня – там тревога есть и радость – грязь и горе вкруг меня… Если б воля, если б крылья… но напрасно – тьма кругом. И для сердца утешенье остаётся только в том, что, быть может, в это время с той звезды, что так блестит, пылкий юноша – мечтатель в глубь эфирную глядит, и ему наш мир убогий, этот грязный ком земли тоже кажется светилом – блещет звёздочка вдали…"
* * *
…Макулатуру, в институте «Гипрометаллург», мы прятали у себя под столом, а начальница с подружками – в раздевалке за занавеской. Институт был большой, макулатурной интеллигенции было много, и раз в месяц грузовик из утильсырья приезжал к нам. Никто не знал, когда они приедут, и все опасались, что это произойдёт в их отсутствие. Потому у нас была круговая порука и сотоварищества на предмет "я сдам – за тебя, а ты – за меня". Периодически возникали макулатурные облавы "по причине повышения пожароопасности помещения". Тут, как раз, был незаменим наш гов. Серёня. Он оживал из-за стола, словно слышал трубы последнего суда, и лазал под нашими ногами, уличая и обличая. Невинными оказывались всегда только начальницы с подружками, потому что их добро-то, если помните, – за занавеской.
Слева от меня за кульманом трудилась Фаина. Это была полная крашеная блондинка, лет пятидесяти, с внешностью и манерами еврейки из анекдота – добродушная «несерёня». Как-то во время занятий по гражданской обороне нам велено было натянуть противогазы и простоять в них несколько минут. Мы уныло стояли вокруг стола начальника и смотрели, как Фаина выделывает какие-то странные па, а затем рушится на пол. Оказывается, она не открыла клапан подачи воздуха, на который и не претендовала, полагая, что противогаз – это устройство, чтобы не дышать. Фаина терпела отпущенные ей богом бездыханные секунды, как и положено советской инженерше, достойной стать эталоном доверия и терпения в одну Фаину. У неё был устроенный быт и красивые книги, которые она любила платонически. Я подарила ей стишок: "О, прекрасная Фаина, ну зачем я не мужчина – я б роскошно издалась, Вам навек бы отдалась".
Справа от меня сидела «Мушка» – Олечка Мухина – милый и безответный человек. Она всё никак не могла устроить свою судьбу, выйти замуж. Её всё время обманывали, и она или не замечала, или легко прощала, сама отыскивая мотивы, извиняющие её обидчика: почему и как он бедненький. Даже "наше г-но" выходило у неё бедненьким. Однажды я стала доверенной одного её романа, обещавшего так много и закончившегося разочарованием. Молодой человек был красивым, порядочным, вежливым, Мушка светилась и летала. Но потом возникло всё усиливающееся недоумение – он "не приставал". Мушка устраивала уединение и полусвет с музыкой, но он оставался красивым и вежливым. Я по заданию Мушки проштудировала главу «импотенция» в Советской энциклопедии, и мы обсудили план генерального соблазнения. Мушка забрала из "чёрной кассы" свой пай и купила французские духи "Мисс Диор" на все двадцать рублей, но порядочный не дрогнул. Мы приуныли, изверились и решили расстаться, чтобы не метать зря французский бисер перед… единицей в одну порядочность.
* * *
Советская трагикомедия летела к своему естественному финалу: макулатурное ружьё готовилось к выстрелу. Цивилизованный мир мыслил в компьютерном ритме, а мы строили муравьиную кучу, самозабвенно неся себя во вселенский утиль. Я стояла на автобусной остановке, окоченевшими пальцами впиваясь в сумки со старыми газетами, и взвешивала свои шансы попасть в очередной автобус. Без сумок шансы были, с сумками – нет. Попыталась, было, улизнуть на съемки фильма, но "не верила" – не верила, подобно великому режиссеру: всё было преувеличенно не смешно, не грустно, а просто безобразно – в миллионы серёнь… Ничего не связывалось – ну на что мне "Тёмные аллеи" Бунина, добытые так, когда я – сама – не женщина, а муравей с бумажкой… Я поставила сумки на тротуар и ушла домой. С этой минуты режиссерское вдохновение покинуло меня – иллюзии более не спасали, Энск стоял насмерть, и эмиграция была предопределена.