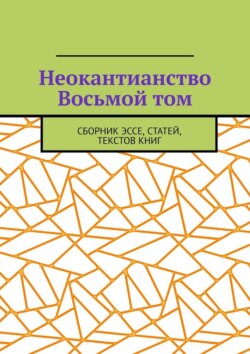Читать книгу Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг - Валерий Алексеевич Карданов, Дарья Андреевна Самсонова, Наталья Сергеевна Кузьмина - Страница 8
БРУНО БАУХ
E t h i k
ОглавлениеВведение
Писать «этику» в работе, которая должна быть посвящена «культуре настоящего», кажется вдвойне парадоксальным. Ведь это «настоящее» не только изначально выбросило культуру в пустоту, но и потеряло ее именно потому, что утратило нравственное сознание. Таким образом, с этической и культурной точки зрения наше «настоящее» на самом деле представляет лишь негативный интерес, заключающийся в том, что его культурная пустота проясняется в его моральном учении, а его моральная пустота – в его культурной пустоте, чтобы в то же время позволить нам хотя бы позитивно заподозрить, что моральное содержание и культурное содержание сами по себе представляют определенную связь. Эти позитивные содержания и их связь, к счастью, в определенном смысле нависимы от всякого «присутствия». Только поэтому из любого возможного настоящего, даже если оно в этическом и культурном отношении столь же убого, как и настоящее, может происходить осмысление этих содержаний и их связи, если только при этом осмыслении оставить это случайное, реальное, настоящее позади или вообще не вступать с ним в отношения.
Если человек обретает такую позицию по эту сторону и за пределами нашего этически и культурно пустого и бессодержательного настоящего, то он действительно понимает систематическую философию как «самопонимание культурного сознания», как ее описывает Виндельбанд. Поймем также, что в центре ее стоит этика, и, наконец, отсюда поймем и конкретное состояние систематической философии, а также культурного сознания в целом и морального сознания в частности конкретной и даже конкретной эпохи. Этика находится в центре систематической философии как «самопонимания культурного сознания» именно потому, что жизненные нити всей реальной культуры сходятся в реальной нравственной жизни. В той мере, в какой исследуется объективное основание действительности или закона того, что мы называем культурой, идея действительности и закона становится всеобъемлющим принципом этого «самопонимания культурного сознания», нависимо от того, находит ли оно свое конкретное выражение в наукеили в искусстве, в морали или в религии, в правеили в политике. С этой точки зрения, как признавал Фихте, вся философия в конечном счете является «практической», в том числе и «теоретическая» философия, которую уже ПЛАТОН правильно определил как «episteme tes epistemes», как» науку наук», или, как мы называем ее со времен Фихте, как «науку». И если смотреть с точки зрения всего культурного сознания, то именно по этой причине сама наука предстает как область культуры среди областей культуры, сохраняя этот принцип в конкретном. Таким образом, в предметности объективной идеи основания права субъективная рефлексия предстает прежде всего своей структурированностью и смещением, как в различных областях культуры, так и в различных философских дисциплинах, к исторической осязаемости. Поэтому систематический вопрос должен, как и в случае с различиями в субъектности, осмыслить и то объективное, надсубъектное содержание, которое делает возможной дифференциацию содержания в этой субъектности и является ее предпосылкой.
Актуальное моральное сознание, образующее субъектную исходную точку этики, находится в процессе становления. Поэтому само собой напрашивается вопрос о том, какое право имеет говорить о моральном сознании, поскольку моральные взгляды меняются не только от народа к народу, не только внутри одного и того же народа от поколения к поколению, от человека к человеку, но и внутри одного и того же человека. Если все эти взгляды, несмотря на их изменение, можно назвать нравственными, то необходимо предположить принцип, который, с одной стороны, приобретает конкретно-историческую форму как общая идея во всех этих меняющихся нравственных взглядах, а с другой стороны, служит критерием для суждения об этих взглядах именно как о нравственных, поскольку эти взгляды дают материал для суждения.
– Общность основного закона нравственного сознания Для того чтобы актуальное, субъективное, моральное сознание могло утверждать, что оно не просто актуально и субъективно, а именно морально, необходимо объективное правовое основание того специфического содержания, которое характеризует именно мораль. В той мере, в какой оно объективно, оно называется правом; в той мере, в какой его содержанием является мораль, оно называется законом морального сознания. В отличие от собственно субъективного морального сознания его можно назвать фундаментальным законом морального сознания или, короче говоря, объективным моральным сознанием. Это закон, под который должно подпадать действительное моральное сознание, причем не просто действительное, а именно моральное. Его содержание не просто отличается от содержания субъективного сознания, как содержание права вообще отличается от содержания факта. Ибо это не закон факта, а, в той мере, в какой мораль обозначает смысл и ценность, закон смысла и ценности, который в той мере, в какой он субъектен, обращается как объективное требование к субъективному сознанию. В этой субъектной связанности она является законом должного, в отличие от законов бытия или природы, которые определяют факты в их простой фактичности, в их ценностном, природном бытии. Его обоснованность совершенно не зависит от субъектной связанности, и, наоборот, субъектная позиция получает свою обоснованность от него. Таким образом, субъектность, лежащая в основе долженствования, служит нам здесь лишь для того, чтобы прояснить его особый правовой характер в отличие от простых законов бытия и природы. И она всегда предполагается теми, кто, следуя заблуждениям Шопенгауэра, отвергает долженствование, поскольку не может выйти из догматически обосновываемого круга идей и поэтому не знает ничего общего с долженствованием, хотя, как я уже сказал, они сами всегда предполагают его, если хотят иметь хоть какое-то право голоса в вопросах этики. В этой субъектности нам должен быть понятен только требовательный характер закона, который не следует понимать так, будто субъект «требует или повелевает» (как до сих пор неверно понимается обозначение императива у Канта). Не мы требуем и повелеваем, а закон требует и повелевает нам; закон устанавливает «требование и повеление» в той мере, в какой он субъектен. Таким образом, указание на субъектность закона в «долженствовании», как, собственно, сегодня должно быть ясно всем, кто с пониманием отнесся к ценностно-философским изысканиям Риккерта, служит прежде всего для характеристики этического закона ценности как отличного от всех законов бытия.
Фундаментальный закон морального сознания, объективная этическая ценность, является, таким образом, объективным законом, согласно которому субъективное сознание является моральным, но не законом, согласно которому субъективное моральное сознание является таковым. В смысле бытия морального сознания мы вообще не могли бы говорить о фундаментальном законе морального сознания. Здесь можно было бы констатировать многообразие естественных законов, определяющих развитие общей нравственной жизни, которая может стать и бнравственной, в зависимости от разнообразия характеров народов и рас и внешних условий их жизни. Однако основной закон нравственного сознания определяет то требование-содержание, которое, несмотря на все разнообразие содержаний бытия, определяемых естественным законом, позволяет также характеризовать ту или иную сферу внутри содержаний бытия именно как нравственную, поскольку они, несмотря на разнообразие содержания, единообразно предстают как субъективные отношения к ней.
Поскольку субъектность должного имеет в субъекте точку связи и отношения с волей, а само должное, следовательно, относится к воле, то характер этического фундаментального закона определяется более точно в капитуляции воли. Таким образом, даже если субъектная связанность этической законности выражается в отказе от воли, именно отказ от воли отличает этическую законность от всякого субъективного произвола. В своей обоснованности этическая законность остается нависимой как от воли действовать в соответствии с ней, так и от попыток определить ее чер познание. ПАУЛЬ ФЕРДИНАНД ЛИНКЕ недавно и по праву рко отверг распространенное смешение этих трех точек зрения, а также строго разграничил закон как таковой, действие в соответствии с законом в жизни и определение закона в этической науке. В характере закона заложена его всеобщность. Поскольку это не закон бытия, а закон долженствования, он должен быть универсальной задачей воли. Будучи основополагающим нравственным законом, он, следовательно, должен быть адресован всякой воле, которая вообще может относиться к долженствованию, т.е. разумной воле. В противном случае мы могли бы говорить не об общей задаче воли как таковой, а об общих задачах воли. Поэтому с самого начала мы должны обратить внимание и на различие между общностьюэтической законности вообще, которая, с одной стороны, касается этического основного закона как такового, и, с другой стороны, разнообразием этической законности вообще. Если здесь можно говорить о правовом многообразии, то это не следует понимать в смысле многообразия естественного права. Ибо их содержание есть и остается содержанием бытия. Содержание же этической законности есть и остается, даже если в рамках ее общности снова можно обозначить различие, содержанием должного.
Две формы общности этической законности в целом
Для того чтобы точнее определить различие внутри этической законности, содержание которой должно быть объективным, чтобы она сама сохраняла характер законности, мы должны прежде всего вновь связать ее с субъектностью. В этой субъектности, как общей задаче воли, она может либо, несмотря на свою всеобщность и объективность, не быть обращенной к каждой разумной воле как таковой, либо, в своей всеобщности и объективности, быть обращенной к каждой разумной воле. В последнем случае также должно быть применено то, что оно вообще должно быть волеизъявлено. В этом желании-бытии его объективность и всеобщность также выражаются со стороны субъектности. Но оно еще н е обязательно должно быть желаемо кажд о й волей. Его желание может быть связано с условиями возможности его осуществления. И только в рамках этих условий возможности осуществления они были бы общими. Их содержание имело бы ту же объективность, что и содержание общей задачи воли, направленной на каждую волю. В этой объективности заключалась бы и его всеобщая необходимость признания для всякой воли, которая могла бы относиться к этической законности как ought-legality, т.е. разумная воля. И эта общначимая необходимость признания объективного содержания со стороны субъектности обозначала бы и всеобщность этой этической законности. Но не будет ли, таким образом, объективное содержание закона уже содержать в себе и его всеобщую необходимость исполнения для каждой разумной воли, поскольку исполнение может быть связано с определенными условиями возможностей исполнения. Таким образом, при той же объективности положения закона, оно в своей субъектности все же допускает явное расхождение двух форм всеобщности. Б предпосылки основного этического закона, направленного на каждую волю, была бы, конечно, мыслима и этическая законность, не направленная на каждую волю. Ее содержание или содержания уже должны быть способны предстать как содержательные спецификации этого основного закона. Но они останутся, хотя и конкретизированными по содержанию и обусловленными по возможности исполнения, тем не менее общими по своей общеобязательности признания и долженствования. И именно это придавало бы им правовой характери отличало бы их от просто субъективных и индивидуальных намерений, от волевых детерминаций, остающихся только в субъекте. Общий момент, таким образом, прояснил бы правовой характер обеих форм всеобщности этической законности. Однако в рамках их общего характера можно выделить одну из них как всеобщую, другую – как конкретную. Если мы называем этическую законность заповедью в силу ее характера как задания, направленного на волю, то в отношении всеобщей законности мы также могли бы говорить только об этических заповедях в единственном числе, а в отношении законности, которая сама является всеобщей, но конкретизируется в силу разнообразия ее содержания, мы могли бы говорить об этических заповедях во множественном числе.
Здесь мы в определенной степени встречаемся с различием Канта между «категорическим императивом» и «гипотетическим императивом». К сожалению, Кант не сделал это различение особенно плодотворным. Действительно, очень скоро после того, как он ввел это различие, «гипотетические императивы» настолько выпали из его осмысления во всем своем значении и объеме, что достаточно часто испаряются в просто «субъективную максиму», с одной стороны, и в просто «техническое правило» – с другой, тогда как на самом деле, как выражается и Кант, они занимают некое среднее положение между «категорическим императивом» и «субъективной максимой». Эта двусмысленность и дисбаланс у Канта порождают не только грубое и легко развеиваемое заблуждение, будто этическая законность вообще лишена содержания, но и гораздо более роковое заблуждение, будто, поскольку «категорический императив» является «формальным» в хорошем и разумном смысле, этика должна быть «чисто формальной» в плохом и неразумном смысле.
Форма, содержание и материал этического определения
То, что «формальное» означает столько же, сколько и бессодержательное, было и остается широко распространенным заблуждением, которому подверглись уже достижения Канта в области этики. Однако этому заблуждению в последнее время противостоял не только я, но и задолго до меня КАРЛ ВОРЛДНЕР, а затем и АВГУСТ МЕССЕР. Это недоразумение тоже связано с только что упомянутым недостатком, а именно с тем, что Кант действительно недостаточно подчеркивал момент содержания, хотя сам он ни в коем случае не допускал ошибки, отождествляяформальное и бессодержательное. Ведь даже если он называет «формальным» именно правовое установление, он никогда не становился жертвой абсурда, согласно которому право как таковое не имеет содержания.
Однако, как бы ни относиться к Канту, нельзя прийти к систематической точности, если не понимать, что «формальное» и «содержательное», находящиеся в неразрывной взаимосвязи друг с другом, не являются взаимоисключающими противоположностями, что даже «формальное» и «материальное» не исключают друг друга, как бы строго они ни были отделены друг от друга, и что различие между «содержательным» и «материальным» особенно необходимо, именно потому, что их часто путают.
Если этическая законность предстает как общая задача воли, то, о какой бы общности ни шла речь, она есть форма ее детерминированности по отношению к данной актуальной субъективной воле, насколько она вообще может быть этически детерминирована. В ней, однако, должно заключаться одновременно и содержание закона, что отличает его этический характер от логического, эстетического и т.д., поскольку в задаче всегда что-то уступает данной воле. Это нечто и есть содержание закона. Смысл и ценность- его форма. Выражаясь субъектно, это означает: должное как таковое обозначает форму, желаемое – содержание закона. Закон сам есть форма как принцип ценности вообще и имеет содержание как содержание ценности. В своей неразрывной целостности формы и содержания он образует критерий оценки данной актуальной воли с точки зрения ее этической детерминированности ценностью. Если в соответствии со своей субъектной принадлежностью она и предстает в своей форме как должное, в своем содержании как предназначенное, то, тем не менее, как со стороны формы своей действительности, так и со стороны содержания своей действительности она совершенно не зависит от того, относится к ней действительная субъективная воля или нет. Напротив, его ценность зависит от его отношения к праву.
Как в отношении закона, короче говоря, следует различать долженствование и намерение, но они образуют неразрывное целое в соотношении формы и содержания, так и в отношении действительной волиследует различать хотение и намерение, но они, со своей стороны, также образуют неразрывное целое и коррелятивное единство. Неправильно истолковывать акцент на ценностном характере формы этической законности как означающий, что на основании формального этического определения воля не должна иметь содержания, значит неверно оценивать факты, не только упуская из виду двойное определение содержания желаемым и желающим, но и не признавая, что желаемое и желающее находятся в совершенно иной сфере, именно в сфере ценности, чем действительная воля, которая находится в сфере реальности как с желающим, так и с желаемым. Поэтому в противовес этому необходимо прямо подчеркнуть, что как в долженствовании всегда есть желаемое, так и в воле всегда есть желаемое. Воля, которая ничего не хочет, ничего не хочет, а воля, которая ничего не хочет, вообще не хочет и, следовательно, не является волей. Это нечто желающее теперь можно было бы также назвать содержанием желания в отличие от желания как желания, которое «имеет» свое «содержание» как «форму», но теперь в смысле «акта». Но для того, чтобы отличить от чего-то должного как содержания закона или намерения, что-то волевое как содержание действия или намерения, это что-то волевое называется «материей» или также «материалом» воли.
Содержание этического основного закона par excellence
Основной закон морали характеризуется универсальной всеобщностью. Именно это определяет его содержание, или должное содержание, от его субъектности. Поскольку он обращен ко всякой разумной воле, его содержание, как бы мало ни была воля б желаемого, не может определяться этим желаемым, которое различно для разных воль. В этом нечто волевом, которое уже отличалось от нечто должного, не может, следовательно, заключаться нечто должное, а значит, и не смысл всеобщего закона, более того, не смысл этического закона вообще. Различение ШОПЕНГАУЭРОМ вопроса: «могу ли я делать то, что хочу» и вопроса: «могу ли я также хотеть то, что хочу» звучит очень рко и четко, но на самом деле оно как раз размыто и неясно. В нем смещаются различия не только между объективностьюи всеобщностьюи различными формами всеобщности, но и между содержанием и материей; различия, о которых ШОПЕНГАУЭР, по его собственному признанию, даже отдаленно не задумывался. Вопрос о том, могу ли я также хотеть то, что я хочу, – это вовсе не этический вопрос; это также не психологический вопрос. В определенном смысле это бессмысленный вопрос. Ведь если я чего-то хочу, я должен быть в состоянии этого хотеть. Если бы я не мог этого хотеть, то я бы вообще этого не хотел. Кантовское различие между «ли» и «как» возможности, которое КАНТ так глубоко и содержательно применяет к общей проблеме опыта, здесь для ШОПЕНГАУЭРА не является вопросом. Поэтому все остается по- прежнему: то, что я хочу, я всегда должен иметь возможность хотеть. Для этого мне, конечно, еще не нужно уметь это делать. Но именно этим и характеризуется неправильное понимание вопроса: могу ли я также хотеть то, что я хочу, что вопрос: могу ли я также делать то, что я хочу, не может быть поставлен в параллель с ним. Вопрос: могу ли я также хотеть то, что я хочу, мог бы соответствовать только вопросу: могу ли я также делать то, что я делаю. А с бессмысленностью этого вопроса становится очевидной и бессмысленность первого вопроса.
Поэтому только это и может быть вопросом: Как я должен волить, чтобы волить так, как я должен волить? Этот вопрос должен быть задан ботносительно к материальному, если мы хотим достичь всеобщности, которая не зависит от материального. Ведь материальное никогда не бывает общим, а всегда индивидуально. Поэтому общая заповедь может быть дана только воле, которая как таковая всегда индивидуальна, поскольку она в то же время супраиндивидуализирует ее в ее индивидуальности, требует от нее не просто оставаться индивидуальной, но и подниматься и расширяться до супраиндивидуального всеобщего. Поэтому истинное и подлинное содержание самого общего этического фундаментального закона действительно может означать не что иное, как волеизъявление таким образом, чтобы мое волеизъявление как волеизъявление (а не волеизъявление) было возведено в статус общего принципа, подобно тому как Кант в форме «категорического императива» фактически выразил «фундаментальный закон чистого практического разума». В этом хорошем смысле закон не лишен содержания, но его содержание само по себе «формально», поскольку оно не «материально», а сам закон не является «чисто формальным» в ложном смысле, поскольку он не материален.
Моральная цель и моральный мотив
Ответ на вопрос: как я должен волить, чтобы волить так, как я должен волить, дал в качестве содержания закона требование к моему хотению быть пригодным в качестве общего принципа. Таким образом, сам закон признается целью или назначением моего хотения. Ради закона как цели, ради закона как такового я должен волить, чтобы волить нравственно. Мое желание должно быть определено в соответствии с законом, чтобы оно могло претендовать на моральную ценность. Эта идея объединяет два аспекта, которые тем рче различаются по своему внутреннему смыслу, чем чаще их смешивают в этических дискуссиях. С одной стороны, есть закон как цель, с другой – детерминация воли как мотив. И то и другое стоит в этически необходимом субъектно – объектном соотношении. Но именно поэтому субъективное и объективное в этой корреляции не совпадают. Поскольку и то, и другое может быть обозначено одним и тем же словом «причина», поскольку на вопрос: по какой причине человек поступил, можно ответить, исходя не только из закона или цели, но и из мотива, поэтому их различие легко скрывается языком. Но «причина» в обоих случаях означает совершенно разные вещи, как бы тесно они ни были связаны друг с другом. Закон как цель- это объективная юридическая причина, в соответствии с которой должно осуществляться намерение; мотив – это субъективное побуждение, из которого намерение фактически осуществляется. Если этот субъективный мотив направлен в соответствии с объективным правовым основанием, то он является правильным в этическом смысле, т.е. нравственным. Таким образом, в морали цель и мотив вступают в конкретную связь. Но звенья этой связи от этого не становятся тождественными. Представление или осуществление справедливости субъективного мотива в желании действовать в соответствии с целью называется долгом. Направить мотив в сторону закона – значит сделать закон эталоном долга в рациональном сознании. В волевом мотиве, который таким образом направляет себя, закон тем самым завоевывает уважение субъекта. Направить мотив в соответствии с целью – значит: уважать закон, значит: иметь в качестве мотива сознание долга, ибо закон есть правовое основание. Таким образом, уважение или сознание долга – это специфически этически обусловленная движущая сила или моральный мотив. И в соотнесении с этим соображением нравственный основной закон заявляет в качестве своей цели: «Поступать из уважения к закону» в кантовской формулировке или: «Поступать из сознания долга» в формулировке FICHTE.
ЛИТЕРАТУРА – Bruno Bauch, Ethik in Paul Hinneberg (ed.) – Kultur der Gegenwart / Systematische Philosophie, Berlin 1921.