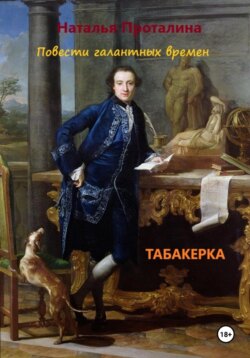Читать книгу Табакерка. Повести галантных времен - - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Глава пятая. Капризы Полигимнии
ОглавлениеВзбодренный известиями Сегюра, а также тем, что театр доехал почти в полной сохранности (пропал лишь один сундук с реквизитом, поломалась пара-тройка бутафорских мечей, да несколько актеров постарше слегли в лихорадке, подхватив по дороге простуду), граф совсем повеселел. Лихорадка сколько-нибудь серьезных опасений не внушала, но к больным был вызван доктор, а старая графская няня отпаивала их своими настоями, которые, как уверяла она, помогут несравненно лучше всех немецких лекарств.
Произведя ревизию костюмов, театральная швея Анфиса Неволина – мать балерины Малаши, пришла к выводу, что пропал в основном совсем незначащий хлам, который она собиралась пустить в переделку и на штопку. До сих мелочей граф не опускался и даже не дослушал отчет Анфисы Терентьевны до конца. Ему уже не терпелось поскорее заняться делом – обдумывать мезансцены, придумывать декорации, расставлять реквизит и раздавать распоряжения актерам.
О сладостный запах театра! О сладчайшие звуки музыки! О, Мельпомена и Терпсихора! Неужели вы снова царите в сем скромном жилище!
Первый день граф ходил как шальной. Руководил, повелевал, размещал, увещевал. На утро следующего объявил репетицию «Несчастья от кареты». Это для разбегу, пояснил он капельмейстеру. И тот, послушно кивнув, чихнул в сторону, ибо был в числе простуженных.
По совету Сегюра граф решил, что представление начнется уже от входа в дом. Въезд императрицы будет обставлен торжественно и графский подарок она получит вовсе не как его подношение, а как дар Небес, преподнесенный самим Зевесом. Для сего он велел пристроить на галерее, что над сенями некое подобие полатей, или верхнюю сцену, как называл это сооружение граф, где и будет царствовать Зевес, ниспосылающий Амура к ногам Екатерины.
Амуром, слетающим на лонжах с верхней сцены, предстояло стать Маланье Неволиной, которая еще совсем недавно дебютировала в роли Ангела, принесшего благую весть самой Богородице. Девушка была так легка, что удержать ее не было особенной проблемой. Трудность была лишь в том, чтобы придать Амуру, пикирующему вниз, некое подобие летящей птицы. Для того лонжи было решено прикрепить к талии, а также к ножкам балерины. Этому воспротивился было месье Робер Паскаль, но постигнув, что спорить с графом, с головой погруженным в свои идеи, бесполезно, отстранился и принялся шлифовать искусство балетной труппы, хотя временами еще сокрушался из-за отсутствия Малаши, которая делала все балетные па во сто крат лучше остальных. Она была единственной, кому можно было без колебаний доверить первые партии в любом танце, но увы…
Пока строили верхние подмостки, сам устроитель празднества трудился над стихами, именуемыми им же одой. Фридриху Штальбауму было велено положить сию оду на музыку и выучить с хором. Ода должна стать приветственной песней, встречающей государыню. И в то же время тому отрывку, что более всего брал за сердце, предстояло быть увековеченным на камне, что составит основание табакерки, которую граф был намерен преподнести своей повелительнице. Ювелир Функ уже подготовил нужный камень и ежедневно торопил графа, пугая тем, что работы много и он попросту может к назначенному часу не успеть.
Воздевая руки к небесам и моля чтобы музы вдохновения ниспослали ему свои дары, граф приступил к сочинительству. И первая часть действительно легко далась ему. Надобно сказать, что для стеночек табакерки Функом при участии Федота Проскурина были выбраны красивейшие кварцы-волосатики, которые почитались астрологами камнями тельцов, а императрица, согласно данным новомодной при дворе науки астрологии, была рождена как раз под созвездием тельца, и использование волосатиков в предмете дарения можно было счесть символичным. Граф не возражал, тем более, что названия кварцев – Волосы Венеры и Стрелы Амура – как нельзя больше соответствовали замыслу и навевали на него поэтические грезы. Он легко зарифмовал сии названия в строфы своего произведения и оказался вполне доволен. Первоначальные куплеты звучали так:
Стрелою Амура пронзен молодец.
Амур – он Венеры послушный гонец.
Лукав и прелестен резвится Эрос –
Наследник богини златых он волос.
Амур и Венера венчают союз
Сердец вспламененных и жаждущих уст.
О, счастье велико изведать любовь
Прекрасной Венеры – царицы богов.
И именно этим строкам, по мнению графа, следовало остаться в вечности, будучи выгравированными на камне. Однако для оды произведение было слишком мало, и граф без особого напряжения сочинил дальше:
Пронзенный стрелою Амура младец
Тоскует и ищет счастливый венец.
О, силы небесны, зачем же мне жить?
Объятья Венеры нельзя возвратить.
Но молодца муки узрел сам Зевес –
Он сфер повелитель, богам всем отец.
Златую Венеру любя пожурил
И в память о страсти ларец подарил.
При этих словах как раз на полатях и должно произойти некое действо, сопровождаемое блеском молнии и раскатом грома, после которого на землю к ногам повелительницы-Венеры будет направлен шаловливый Амур на лонжах. В руках Амура действительно будет ларец, который божок вручит государыне, а хор последним куплетом подскажет ей, что нужно открыть сей ларец, чтобы узреть Зевесов подарок.
Граф задумался. Первая строфа пришла сама собой: «А в ларчике этом хранится секрет, – мурлыкал граф, размахивая пером и не замечая, как капли чернил летят на дорогой ковер и бархатный камзол, – а в ларчике этом та-та та-та-та…». Дальше дело шло туго, хотя вот: «Напомнит он нежныя страсти обет…». Впрочем, граф сомневался – напоминать ее величеству какие-то там обеты не было смысла, потому как их вовсе не существовало. Но уж больно хорошо получилось: « А в ларчике этом хранится секрет – напомнит он нежныя страсти обет». Пожалуй можно оставить, ведь речь идет о языческой богине и каком-то постороннем молодце, никому и в голову не придет сопоставлять Венеру и саму государыню Екатерину. Нет, решительно хорошо. Над концовкой он еще поработает, а вот начало следовало, не мешкая, передать Штальбауму для музыкального озвучания.
На копирование и заучивание слов оды хористами ушел почти день, а когда он миновал, то выяснилось, что верхние подмостки уже готовы, и вполне можно начинать первый прогон действа. Штальбаум, покопавшись в нотах, нашел нечто подходящее к графским строкам. Погожев сам напел ему: «Та-та та-та-та-а-та та-а-та-а-та-та-та» и капельмейстер, ерзая и краснея, подстроил под графское творение кое-что из Моцарта.
И вот хористы с бумажками в руках выстроены полукругом. Оркестранты сосредоточенно смотрят в ноты. Штальбаум взмахнул палочкой. Хор и оркестр вступили одновременно, отчего вся сцена сразу как-то скомкалась. Зевс и прочие небожители, стоя на верхних подмостках, не знали, чем себя занять и только когда пришла пора спустить вниз трепещущего от страха Амура, оживились и задвигались. Амура они почти силой скинули вниз, и девушка еле живая от непривычного состояния полета, сразу же выронила из рук шляпную коробку, призванную изображать ларец, подаренный Зевесом. Алексей Васильевич остался не доволен. Все было вяло, актеры напоминали марионеток, и текст не вязался с действием. Получалось, что Амур слетает с верхних подмостков под куплет, в котором поется о том, что Зевс Венеру пожурил и подарил ларец, а на самом деле Зевс журит Венеру именно в тот момент, когда хор поет о тоске юноши, утратившем любовь прекрасной богини. Сие никак не сочеталось. Нужно было что-то делать. Прежде отправили наверх Амура и велели всем небожителям как-то оживить действие, изобразив хоть какие-нибудь сцены из жизни.
Оду повторили, но теперь получалось так, что Амур слетал к ногам императрицы уже под тот несуществующий куплет, который еще предстояло дописать, но куплет этот предполагалось написать о том, что в ларчике что-то лежит, а не о том, что ларчик Зевсом Венере подарен. Под те строфы, где говорится, что Зевс Венере ларец подарил, Громовержец вручал ларец как раз Амуру. Нет. Это вовсе не годилось.
Граф сызнова отправил Малашу наверх, а сам нервно заходил по сеням. Теперь он решительно был разочарован во всем. Первые два куплета вообще не были обставлены никаким действием и как бы актеры не пытались изобразить величественные жесты, присущие лицам, населяющим Олимп, общее действо это вовсе не скрашивало, а как раз напротив, придавало ему вид глупейшего фарса.
Вот тут он и возблагодарил небо, что есть в его труппе Робер Паскаль, который, узрев муки мецената, тотчас предложил оживить встречу императрицы маленьким балетным представлением. Граф, сразу оценивший идею, чуть было не расцеловал Паскаля. Немедленно воспрял и потребовал прогнать все действо сначала, хоть пока и без балета. Теперь хор должен был вступить позже на несколько тактов, дав возможность балету оттанцевать сюжет, изложенный в стихах. Решено было, что небожителям уместно выходить на верхние подмостки только к тому времени, когда хористы начинали петь третий куплет. И вроде бы все как раз сложилось, но Амур по-прежнему слетал с верхних подмостков не тогда, когда этого требовалось.
На этот раз графу на помощь пришел Штальбаум, который предложил сделать некую паузу как раз в том месте, когда Зевс журит Венеру. Граф и это воспринял с удовольствием и даже придумал, что Зевс блеснет в воздухе бутафорской молнией, а в соседней зале будет установлена машина грома, которая издаст небольшой раскат для придания достоверности действиям Громовержца.
Чтобы удостоверится, что идея его действительно удачна и раскат из соседней комнаты будет достаточно хорошо слышен, Погожев потребовал установить машину немедленно. А поскольку это требовало времени, в репетиции был объявлен перерыв, закончившийся куда быстрее, чем хотелось бы Малаше Неволиной, которая бледностью могла бы теперь сравниться уже только с белеными потолками. Глядя на нее, Анфиса Терентьевна лила горькие слезы, а Федот Проскурин, которому до Погожева было дело, задержался в сенях, и на лице его было такое решительное и недовольное выражение, что пристало бы самому Пугачеву. Однако Алексей Васильевич совершенно ничего не хотел замечать. Он был болен своей идеей и настроен, во что бы то ни стало, воплотить ее в жизнь. Поэтому, как только машина была готова, объявили новый прогон.
Заиграла музыка, хор вступил как раз там, где нужно. К третьему куплету на верхних подмостках показались Зевс, его супруга Гера, Амур и другие жители Олимпа. Зевс в нужное время поиграл золотыми молниями и управляющий машиной грома, установленной в соседней зале, не пропустил момент для извлечения звуков, положенных громовержцу. Хор тактично приостановил свое повествование о муках молодца как раз в этом месте. Именно в этот момент Амур, получив ларец, медленно начал спуск на лонжах. Хор озвучил полет последней строфой законченного куплета. Все прошло не плохо, если не считать, что с ноги девушки соскочила веревка, и она от растерянности нехорошо приземлилась. Граф великодушно махнул рукой, решив, что огрехи в действиях труппы будет латать, когда замысел будет ясен весь целиком.
Далее после спуска Амур должен был протянуть императрице ларец, а хор подсказать, чтобы государыня ларец открыла. Но текста больше не было, а Амур, с трудом очнувшийся от своего сошествия с верхних подмостков, был так бледен, что походил скорее на привидение.
Алексей Васильевич велел привести актрису в чувства, а сам удалился в кабинет для поэтических трудов.
Он ходил по кабинету, меря его шагами взад-вперед и по диагонали, и без конца твердил то вслух то про себя первые две строфы заключительного куплета. Дальше надо было бы что-нибудь про вечную любовь и неугасающую страсть, но поскольку таковых в сердце не было, то и нечему было вылиться на бумагу. Погожев напрягся. Ну, для чего тогда все это затеяно? Чтобы богиня, то есть Венера, то есть императрица уверилась в его искренних чувствах… Да уж какие они искренние! Он, признаться, сам уж так в своих чувствах запутался, что и не объяснил бы… Впрочем вот: «Узнает Венера вечерней порой… что молодец верен всегда ей одной». Хотя, почему вечерней? «Узнает Венера весенней порой, что молодец…».
Посчитав сей вариант сносным, граф выбежал в сени и заставил хористов заучить текст с голоса. Две простеньких строфы улеглись в головах людей без особого труда. Погожев потребовал новый прогон, но теперь уже с положенной концовкой. Изображать императрицу, принимающую дар Зевеса, должен был сам граф. В этой роли он как никто другой сможет увидеть действо со стороны и оценить все его преимущества и огрехи.
Благодаря небольшому перерыву Малаша несколько собралась с духом и этот дубль отыграла с блеском. Спускаться она уже почти не боялась, а шляпную коробку научилась держать так, что та уж больше не вываливалась у нее из рук. Однако ж граф на этот раз остался недоволен своим произведением. Все-таки концовка нехороша. Варенька! Она наверняка будет присутствовать. Ведь она фрейлина императрицы. И что же она услышит? Что он, молодец, граф Погожев, верен одной императрице. И это после того, как она положила медальон в ящик Амура можно сказать прямо у него на глазах! Да он просто олух, если оставит концовку такой, как есть. Граф не велел актерам расходиться, а сам сызнова отправился в кабинет.
Вот уж который раз он перемеряет пространство шагами, а все каждый раз разное количество оных получается. Тьфу! Да о чем это он думает. Ода! Ода горит. Надо вернуться с небес на землю, хотя скорее, наоборот, с земли на небеса. Так что там с Венерой? Ах, Венера! Да. Что-то с ней надо делать. Напомнит обет… Напоминать, конечно, особенно нечего. Но… Не может быть чтоб совсем ничего не осталось у нее в сердце. Не такова она, эта богиня. О! Что-то есть. Обет.. та-та-та. Он сердце богини вернет молодцу и…. и… и дела прибавит Венеры гонцу». ОНО!
Граф попрыгал в такт своим строфам и, коли не боялся бы потерять лица перед крепостными, так и прыгал бы по лесенке, распевая.
Он сердце богини вернет молодцу
И дела прибавит Венеры гонцу.
Но так все-таки было нельзя, и он вышел к народу сосредоточенный и сдержанный. Хористы вновь с голоса заучили последний куплет графского творения, но при воспроизведении не сбились только благодаря тому, что единственный, кому достался лист бумаги с новым текстом куплета, вовремя и очень громко, хотя и несколько фальшиво заголосил «Он сердце богини…», перекрывая зазубренное хором «Узнает Венера весенней порой…». Граф отметил старания хориста, но мысль, которая посетила его, когда он вдумался в сию строфу, поразила не хуже, чем стрела Амура сердца внезапно влюбленных. Потемкин! Даже если представить, что он не пожелает быть на празднестве вместе с Екатериной, все одно ему уж точно донесут про «дело, которое будет добавлено Венеры гонцу!» Так открыто и бесшабашно заявить о своих намерениях почти мужу, а может быть и мужу, вдруг разговоры не беспочвенны…. Ой-ой. Граф нахмурился и направился в кабинет для встреч с поэтической музой.
Вначале голову не посещали никакие совершенно мысли. Граф колотил костяшками пальцев по столу, сбил на пол пару каких-то вазочек – и не случайно, а намеренно, чтобы немного охладить раздражение его охватившее. Оно как-будто и впрямь ушло, и разум проглянул сквозь пелену густого тумана, что клочками повис на мозгу. Ведь чего все-таки графу надобно? Добрых отношений с императрицей. Боле-то что! Ничего боле он уж не желает. Вот если б можно было добиться расторжения брака с Прасковьей и жениться на Вареньке! Но такого ему никто не позволит, пиши стихи или не пиши… Стоп! Кажется есть! « И дело направит к счастливу венцу…. Концу…» Та-та та-та-та… И дело к счастливому склонит венцу». Венец это преждевременно. Венцу-концу. Да, лучше «концу». Погожев, боясь бросить лишний взгляд в сторону, чтобы не сбиться, торопливо записал:
А в ларчике этом таится секрет.
Напомнит он нежныя страсти обет.
Он сердце богини вернет молодцу
И дело к счастливому склонит концу.
Вот так! Конечно, такой строфой нельзя гордиться, но она должна удовлетворить всех. По крайней мере, так казалось Алексею Васильевичу. Он широко распахнул дверь, по обыкновению, подмигнул портрету отца и снова направился в сени, где томились его подваластные. На этот раз текст был запомнен намного быстрее. Возможно оттого, что последняя строчка, которая собственно только и поменялась, была куда проще предыдущей. Актеры справились с ней блестяще. Привыкшая к высоте Малаша почувствовала себя на лонжах уверенно и в ней даже вдруг появился некий кураж. Во всяком случае, она элегантно приземлилась и величественно подала Погожеву шляпную картонку, отчего сцена дарения выиграла, а девушка в графских глазах приобрела вдруг какой-то особый шарм и очарование.
На эту пору, а с того момента, как Робер паскаль предложил Алексею Васильевичу свою помощь, прошло уж не менее двух часов, выяснилось, что балет уж готов и Погожев пожелал немедленно посмотреть весь маленький спектакль, сочиненный с таким трудом, в целости. За сим последовало несколько генеральных прогонов, в коих постоянно что-то не шло и сбивалось. То хор вступал не там, то раскат грома получался совсем уж несущественным, то балерина делала не то па, по причине того, что балет был еще плохо отрепетирован. Словом, генеральных прогонов было несколько, и ни один не удовлетворил Алексея Васильевича в полной мере. Наконец, видя, что труппа совсем измотана и ощущая жуткую головную боль, он махнул рукой:
– Ну, последний раз и отдыхать.
Но и на этот раз все пошло вкривь и вкось. Уставшие и с утра не имевшие во рту маковой росинки, актеры, делали над собой усилия, чтобы все исполнить гладко и именно оттого все было как раз наоборот – с сучками и задоринками или, и того хуже – с целыми бревнами. Танцовщики наступали руг другу на ноги, Зевс, делая величавый жест, слишком резко отступил назад и чуть не свалил с подмостков верную жену Геру. Отчего нимфы и сатиры, на которых был возложен спуск Амура с заоблачных небес, неожиданно, словно желая несколько уменьшить толчею на густонаселенном Олимпе, принялись спускать Амура, еще даже не получившего положенную ему шляпную коробку.
Амур не смутился, а потянулся к протянутой ему Зевесом коробке, но от его движения, какая-то пружинка из застежки, коей была приделана к его костюму лонжа, сработала, и лонжа с Амура начала предательски слетать. Малаша опять не растерялась – вцепилась в нее руками, но растерялся сатир, что управлял этой лонжей. Он отчего-то потянул ее с силой вверх и из-за этого чуть не полетел вниз сатир, управлявший лонжами, привязанными к ногам. Когда же он резко отступил назад, чтобы удержаться, веревка, которая уж слетала с Малашиной ноги, снова съехала и теперь девушка осталась висеть на высоте пяти с лишком аршин, лишь на одной лонже да на слабеющих руках.
Балет и музыка как-то вдруг прекратились. Сатиры ждали команды, что делать с балериной – спускать вниз или может быть поднять снова на Олимп. Граф, пробудившись от своей поэтической полудремы, вдруг постиг происходящее, и поняв, что силы девушки на исходе, подбежал как раз к тому месту, куда готова была уже рухнуть Малаша. Тут он резко скомандовал опускать девушку вниз. В это самое время боковым зрением он увидел, как от толпы дворни отделился еще какой-то человек и подбежал к нему, но внимание Алексея Васильевича было так поглощено Малашей, что он даже не понял, кто это. Не понял до той самой минуты, пока балерина не свалилась с веревок прямо им обоим на руки и больше даже к тому другому, чем к нему.
Тогда только Погожев посмотрел на своего помощника и увидел Федота, который теперь уж полностью завладел Малашей и держал ее на вытянутых руках с тем же трепетом, как, бывало, свои коробки с минералами. Малаша была без чувств и еле дышала. Лицо ее казалось почти серым, а руки так и остались сцепленными со спасительной веревкой.
– В постель ее, да немедля найти Анфису, – скомандовал Погожев, но тут же увидел, что Анфиса Терентьевна уж тут, возле дочери и цветом лица почти такая же как та.
– Ну чего стоите, – рявкнул он на прочих представителей дворни, – доктора зовите! Быстро! Коли не отойдет, всех на конюшни сошлю!
С этими словами расстроенный, и оттого еще более жаждущий деятельности Погожев почти силой выхватил у Федота так и не пришедшую в себя Малашу, и стал подниматься с ней по лестнице. Но он понес ее не на третий этаж, где были размещены актеры, а в свою спальню. По привычке ли, по незнанию ли конкретного места проживания Малаши, или по какой другой причине так получилось, но получилось именно так, что через несколько минут Маланья Неволина уже лежала в графской кровати, а Анфиса Терентьевна, робко просочившаяся в дверь двумя секундами позже, держала у нее на голове ледяную примочку.
***
Граф хмурился, камердинер Прокопий Власьев с кислой миной взирал на тазик, в котором плавал лед. На изящном инкрустированном золотом и перламутром столике, куда поставили таз, образовалась лужа, которая непременно предмет мебели испортит, а назавтра граф обязательно с него, Прокопия, спросит за несохранность дорогой вещи. Следовало бы таз этот немедленно со стола убрать. Но Анфиса Терентьевна беспрестанно обмакивала в него белую тряпицу, чтобы сделать дочери примочку. Граф же с такой тревогой и вниманием взирал на все это, и с таким нетерпением обрывал всякое шевеление Прокопия в сторону постели или столика с тазом, что просвещенный камердинер, хотел было уж даже и обидеться.
Ну что, в самом деле, из-за крепостной девки причинять себе такой урон. Да еще доктора велел вызвать! А доктор-то еще денег за визит возьмет. Глупость какая. И ладно бы девка стоящая, как Стешка например – тут все при ней и телесные так сказать формы в порядке и голосина такой, что глухого за душу возьмет, а это-то что. Худа ведь как кол, только и умеет, что порхать, аки мотылек. Вон, дела графом порученного, и то выполнить не сумела.
Когда Маланья открыла глаза, граф тотчас склонился над ней и с такой надеждой смотрел, что у Прокопия в душе зародилось некое подозрение. И подозрение это окрепло, когда Погожев неожиданно поцеловал маленькую прозрачную ручку балерины, а как у той из глаз хлынули слезы, даже промокнул их своим платочком. Смотри, пожалуй, промелькнуло в голове у просвещенного камердинера и он, почитая себя не особенно нужным, поспешил выскользнуть за дверь. Следовало порассказать кое-что Степаниде Семеновне. Порассказать поскорее, там уж может и поздно будет.
***
Доктор застал Маланью уже сидящей в постели. Молодой организм да еще привыкший к театральным нагрузкам, когда весь день репетиции до изнеможения, а вечером почти каждый раз новый спектакль, быстро восстановился под воздействием отдыха и наверное еще страха перед повелителем-графом, которого Малаша неожиданно нашла возле своей постели. Страха, того более усилившегося, когда она поняла, что и в постели-то она не в своей, а в графской. Когда же еще выяснилось, что для нее специально вызван доктор, то Малаша чуть снова не упала в обморок. Но все же ее взял интерес- живого доктора она вблизи никогда не видела, а это, говаривали в дворне, люди очень занятные, и всегда с причудами.
Доктор, осмотрев балерину, не нашел у нее ни единой болезни и только покачал головой, когда увидел ярко-красные рубцы и волдыри вокруг правой щиколотки – след от веревки. Велел это место смазывать мазью и тотчас достал откуда-то склянку. Отворять кровь актрисе не стал. Только велел накормить ее крепким куриным бульоном и уложить поскорее спать. Сии рекомендации были тотчас исполнены. Маланье принесли супу, который она с завидным аппетитом смолотила, и оставили все тут же почивать. Граф же, вспомнив, что не имел с одиннадцати утра до девяти вечера во рту ни кусочка, отправился в столовую залу, где отведал обед и ужин сразу.
Успокоенный и сытый, он откинулся на спинку стула и не заметил, как уснул. Сон его был все о том же – о спектакле. Он уже видел ярко освещенную залу, императрицу в платье, усыпанном бриллиантами, сдержанно улыбавшегося Потемкина, вельмож с заострившимися от зависти физиономиями и глазами, беспрестанно скользящими по лицам тех двух первых и стремящихся выказать именно те чувства, которые отражаются на их лицах, как вдруг кто-то потревожил его. Он отверз сонные очи, недовольный тем, что ему не дали досмотреть, что будет дальше, и тут узрел Степаниду, мягко и нежно улыбающуюся.
– Пойдем почивать, солнышко мое ясное, – уговаривала Степанида, – не гоже тебе опосля дня трудов, так-то себя терзать, чай есть для сна постеля.
Граф мягко отстранил ее, все еще не довольный тем, что она не дала ему досмотреть милое сердцу видение и сонно заурчав, зевнул и потянулся.
Но она не уходила, а все манила к себе, говоря мягким голосом, что пора его сиятельству спать и нужно-де идти в опочивальню. Часы в поддержку Степаниды отбили четверть двенадцатого.
Граф нехотя поднялся и поплелся к себе, не сказав Степаниде ни слова. Почти в полусне он миновал несколько комнат, что были на пути к спальне и тут с удивлением увидел в зале, что самым непосредственным образом спальне предшествовала, чинно расхаживавшего Федота Проскурина. Должно у него было дело до графа, касаемое каменьев. Но граф теперь уж так хотел спать, что только поморщился и сказал капризно:
– Поди, голубчик. Все завтра.
Федот поклонился, но не ушел. Во все глаза смотрел на графа и шествующую вслед за ним Степаниду. Графу было уж все равно, пусть хоть до утра ходит. Он распахнул дверь спальни и тотчас огляделся в поисках Прокопия.
О-о-о! То, что он увидел в тусклом свете свечи, заставило его пробудиться. Разметавшаяся и порозовевшая во сне Малаша, была хороша уж не миловидностью пухлощекого божка Амура, а прелестью молодой здоровой девушки, которую крепкий сон сделал столь привлекательной, что никакие белила и румяна не в силах сделать с иной особой женского пола в дневное время. А какова она была в своей роли! Изящна, легка, пластична. Невесомые одежды развевались, открывая взгляду стройные ножки, обтягивая округлые бедра и крепкие ягодицы. А ее взор! Как он горел озорной радостью, когда все удавалось и какой грустью наполнялись ее глаза, когда что-то не получалось. А ведь ее роль была пожалуй самой трудной. Графу страстно захотелось вознаградить ее за старание. Так страстно… что он повернулся к Степаниде, молча взиравшей то на крепко спящую Маланью, то на повелителя, в голове которого бродили совершенно не доступные ей мысли, и проговорил: