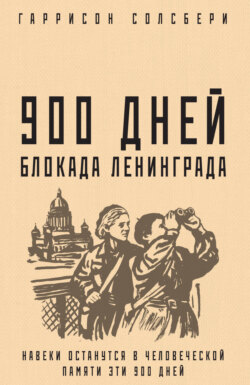Читать книгу 900 дней. Блокада Ленинграда - - Страница 5
Глава I
Бесконечная ночь
Роковая суббота
ОглавлениеМного лет спустя после той субботы 21 июня 1941 года адмирал Н.Г. Кузнецов пытался мысленно воссоздать, что тогда происходило за кулисами – в Кремле, в Наркомате обороны, в высших сферах Советского государства. Он вспоминал, что день выдался необычно спокойным. Обычно телефон бывал непрерывно занят – звонили наркомы, руководящие работники, особенно часто Иван Носенко и Вячеслав Малышев – руководители оборонной промышленности, которых он звал «неугомонными». Звонки шли потоком часов до шести вечера, когда высшие руководители отправлялись обычно домой – пообедать и немножко отдохнуть перед возвращением на работу. Они привыкли оставаться в своих учреждениях до двух-трех часов ночи на случай, если позвонит Сталин, работавший почти всю ночь. Нарком, которого не было на месте в момент звонка от «Хозяина»[8], к утру мог перестать быть наркомом.
Но суббота завершилась спокойно. Не звонили ни Малышев, ни Носенко. Словно в этот обычно полувыходной день – на сей раз такой чудесный, теплый, летний – большинство руководителей уехало за город (после обеда). К вечеру Кузнецов позвонил наркому обороны Тимошенко. Но ответили, что нарком уехал. И начальника Генерального штаба генерала Жукова не оказалось на месте.
Что-нибудь случилось в Москве? Неужто прошел этот июньский чудесный день, а в Кремле на то, что происходит, не обращают внимания?
Но в одном правительственном учреждении не было покоя. В Наркомате иностранных дел, расположенном среди разбросанных облупившихся зданий на Лубянке. Небольшая площадь отделяла его от здания из красного кирпича – Главного управления НКВД. С 6 мая пост председателя Совета Народных Комиссаров перешел к Сталину, а Молотов сосредоточился на дипломатической работе. Но, оставаясь заместителем председателя Совнаркома, он обычно днем работал в Наркоминделе, а вечером в Кремле. По личному указанию Сталина (вероятно, после жаркого, долгого обсуждения в Политбюро) Молотов составил точные инструкции, которые в зашифрованном виде были переданы по телеграфу советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову[9].
Деканозову дали указание потребовать срочную аудиенцию у министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа и представить «устную ноту протеста» в связи с ростом полетов немецкой авиации над советской территорией. В ноте указывалось количество полетов – 180 за период с 19 апреля до 19 июня. Некоторые самолеты вторгались в глубь советской территории на 100–150 километров[10]. Предполагалось, что Деканозов обсудит затем с Риббентропом общее состояние советско-германских отношений, выскажет озабоченность по поводу их явного ухудшения, упомянет слухи о возможности войны и выразит надежду, что конфликта можно избежать.
Деканозов должен был заверить Риббентропа, что Москва готова на переговоры, чтобы улучшить обстановку.
Зашифрованные указания для Деканозова были получены берлинским посольством в субботу рано утром. В Берлине, как и в Москве, погода была прекрасная. Жители собирались поехать за город, многие – в парки Потсдама или Ванзее, где начинался купальный сезон.
Настроение в советском посольстве было безмятежным. После скучной утренней пресс-конференции в нацистском министерстве иностранных дел, проводившейся обычно по субботам, зашел корреспондент ТАСС И.Ф. Филиппов. В это время советский пресс-атташе докладывал Деканозову содержание утренних немецких газет. Филиппов сообщил послу, что иностранные корреспонденты задавали ему вопросы по поводу слухов о нападении Германии на Россию, что некоторые в ожидании возможных новостей собирались остаться в Берлине на субботу и воскресенье. Он писал затем в своих воспоминаниях: «Казалось, посол не придал большого значения моим новостям». Но все же Деканозов, когда ушли остальные, попросил его остаться и спросил, что Филиппов думает относительно этих слухов. Тот сказал, что к слухам надо отнестись серьезно, учитывая многие факты, которыми располагает посольство. Но посол убеждал его: «Не стоит впадать в панику. Это на руку нашим врагам. Надо правду отличать от пропаганды». И они расстались. Перед уходом Филиппов сообщил, что в воскресенье собирается съездить в район Ростока. Деканозов одобрил его намерение, сообщив, что и сам хочет прокатиться на машине.
Даже если Деканозов и был встревожен полученным из Москвы предписанием добиваться срочной беседы с Риббентропом, он и виду не показал в разговоре с Филипповым.
Первый секретарь посольства Валентин Бережков получил задание позвонить на Вильгельмштрассе и организовать встречу с Риббентропом. Однако дежурный на Вильгельмштрассе заявил, что Риббентроп в отъезде. Бережков пытался связаться с бароном Эрнстом фон Вайцзеккером, государственным секретарем министерства иностранных дел. Безуспешно, он также отсутствовал. Немного позднее Бережков снова позвонил. Никого из ответственных сотрудников министерства не было. Он периодически звонил и наконец часам к 12 связался с Эрнстом Верманом, начальником политического отдела министерства иностранных дел. Верман ничем не мог помочь[11].
«Мне кажется, – сказал Верман, – что у фюрера какое-то важное совещание. Видимо, все они там. Если дело срочное, сообщите мне, я постараюсь связаться с руководством.
Между тем Деканозову было предписано говорить только с Риббентропом.
Из Москвы начались срочные звонки в Берлин, в советское посольство. Молотов приказывал действовать. Однако посольство могло лишь сообщить, что прилагаются все усилия, чтобы связаться с Риббентропом, но безуспешно.
День прошел, волнение возрастало. Вечер наступил – Риббентропа нет. Ушли домой сотрудники посольства, Бережков остался и уже механически, через каждые полчаса, звонил на Вильгельмштрассе.
Окна советского посольства выходили на Унтер-ден-Линден. Сидя у телефона, Бережков глядел в окно. Берлинские жители, как всегда по субботам, гуляли под любимыми липами на бульваре; женщины по-летнему в ярких ситцевых платьях; мужчины, в основном немолодые (вся молодежь в армии), – в темных, довольно старомодных костюмах; неизменный полицейский в уродливой «шуцманской» каске стоял, прислонившись к стене у ворот посольства.
На письменном столе Бережкова лежал субботний номер «Фёлькишер беобахтер», в котором была статья Отто Дитриха, гитлеровского руководителя прессы, – разглагольствования об «угрозе», нависавшей над планами Гитлера по созданию тысячелетнего рейха.
«Трудно было, – вспоминает Бережков, – забыть о слухах и о том, что последняя дата нападения – 22 июня – может подтвердиться».
Казалось все более странным, что в течение целого дня невозможно связаться ни с Риббентропом, ни с Вайцзеккером, который всегда немедленно принимал советского посла в случае отъезда министра.
Бережков продолжал звонить. И каждый раз дежурный офицер повторял: «Мне не удалось связаться с министром, но я помню, принимаю меры…»
Наконец в 9.30 вечера Вайцзеккер принял Деканозова. Советский посол высказал претензию в связи с вторжениями нацистских самолетов. Вайцзеккер ответил кратко: он передаст содержание «устной ноты» в соответствующие инстанции, но ему сообщали о массовых нарушениях границы советскими, а не германскими самолетами, поэтому у германского, а не у советского правительства есть причина выражать недовольство.
Деканозов пытался поговорить о том, что Москва вообще обеспокоена развитием советско-германских отношений, но безуспешно.
Короткая запись, которую сделал фон Вайцзеккер для фон Риббентропа, показывает, насколько велика была неудача Деканозова: «Когда господин Деканозов пытался продолжить разговор, я ему сказал, что, поскольку наши мнения совершенно не совпадают, я должен подождать, чтобы узнать мнение моего правительства, и лучше пока в эти вопросы не углубляться. Ответ поступит позже. Посол согласился с таким решением и уехал.
В субботу 21 июня в Лондоне был чудесный день. Солнечный, теплый, «сочетание, для Лондона не столь уж частое», как отметил в своих мемуарах Иван Майский, советский посол в Великобритании.
На Кенсингтон-Палас-Гардене, 18, в советском посольстве, Майский торопливо закончил работу и к часу дня уже ехал с женой в Бовингтон к Хуану Негрину, который был премьер-министром Испанской республики с 1937 по 1939 год. В последний год Майский и его жена почти каждую субботу и воскресенье проводили в доме Негрина, километрах в семидесяти от Лондона.
Они прибыли в Бовингтон в начале третьего.
«Какие новости?» – спросил Негрин, пожимая руку Майскому.
Тот повел плечами: «Ничего особенного, но положение угрожающее, в любой момент что-то может произойти». Он, конечно, подразумевал нападение Германии на Россию.
Стараясь не думать о многочисленных донесениях, в которых он предупреждал Москву о возможном нападении Германии, Майский снял темный в тонкую полоску костюм дипломата, надел фланелевый, летний, и отправился гулять по саду. Он сидел на скамье на зеленой лужайке, откинув назад голову, чтобы по лицу струились теплые солнечные лучи. Воздух, пронизанный пьянящими ароматами лета… Но не думать об опасности было невозможно, как он ни пытался. Неожиданно его позвали к телефону. Секретарь посольства сообщал из Лондона, что британский посол в Москве сэр Стаффорд Криппс, в это время проводивший отпуск в Англии, хочет видеть его немедленно.
Майский сел в машину и через час опять был в Лондоне. Криппс, несколько взволнованный, ждал его в посольстве. «Помните, – сказал Криппс, – я неоднократно предупреждал Советское правительство, что немцы вскоре нападут?[12] Ну а теперь есть достоверные сведения, что нападение будет завтра, двадцать второго июня, в крайнем случае двадцать девятого июня. Я хотел вам об этом сообщить».
Майский срочно телеграфировал в Наркоминдел. Было около 4 часов дня (по московскому времени семь вечера). Затем он вернулся в Бовингтон, в тихую сельскую местность, к теннисным кортам, к ароматам лета – и всю ночь не мог заснуть.
Между Лондоном и Москвой разница во времени три часа. Не ранее восьми вечера по московскому времени, а возможно и после девяти, удалось расшифровать в Наркоминделе срочную телеграмму Майского. К этому времени Молотову все еще ни слова не сообщили из Берлина относительно попытки Деканозова провести переговоры с Риббентропом[13].
Может быть, под влиянием телеграммы Майского или скорее из-за того, что Деканозову не удалось провести переговоры с фон Риббентропом, Молотов пригласил в свой кремлевский кабинет германского посла графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга на 19 часов 30 минут вечера.
Молотов и Шуленбург часто встречались в лучшую пору советско-германского пакта. Беседы теперь стали более редкими, контакты осуществлялись не на столь высоком уровне. Приглашение в Кремль явилось для Шуленбурга неожиданностью.
Начиная разговор, Молотов выразил недовольство по поводу нарушения германской авиацией советских границ. Но Шуленбург сразу понял, что это лишь предлог для обсуждения отношений вообще, в частности, того, что Молотов назвал признаками недовольства германского правительства политикой советского правительства. Упомянул Молотов и о слухах насчет угрозы войны между двумя странами, сказал также, что не может понять причин недовольства Германии. Он просил Шуленбурга объяснить, в чем дело.
«Я сказал, что не могу ответить на этот вопрос, поскольку не располагаю соответствующей информацией», – сообщил Шуленбург в срочной телеграмме, отправленной в Берлин в ночь на воскресенье, в 1 час 17 минут. Этой телеграмме на долгие годы суждено было стать последней, отправленной немецким посольством из Москвы.
Молотов, желая добиться ответа, высказал предположение, что слухи об угрозе войны не лишены оснований. Ему сообщили, сказал он, что из страны уехали все представители немецких деловых кругов, что уехали жены и дети сотрудников посольства.
Шуленбург, честный, принципиальный человек, был смущен. Из частных источников (но пока неофициально) он знал о неизбежности войны. Глубоко встревоженный событиями в рейхе, он послал надежного агента в Берлин; тот вернулся лишь в прошлое воскресенье, сообщив дату вероятного нападения – 22 июня.
У Шуленбурга не было готового ответа. Несколько неуверенно он сказал, что немецкие женщины и дети уехали домой на каникулы, что климат в Москве суровый. Да и не все же женщины уехали, добавил Шуленбург, подразумевая жену Густава Хильгера, второго секретаря посольства, который сопровождал его в Кремль.
Хильгер вспоминал, что после этого Молотов перестал настаивать, пожал плечами и беседа закончилась.
Немцы поехали назад в свое посольство. Сгущались вечерние сумерки, по Москве-реке плыл, сверкая огнями, экскурсионный пароход, ревел джаз, исполняя американскую песенку.
Впоследствии адмирал Кузнецов высказывал мнение, что в ту субботу, где-то во второй половине дня, Сталин осознал если не полную неизбежность, то растущую вероятность конфликта с Германией. В какой-то мере это мнение подтверждает и свидетельство генерала И.В. Тюленева, командующего Московским военным округом в июне 1941 года.
Тюленев служил в Красной армии давно. В 1939 году он командовал советскими войсками, занявшими районы Польши по соседству с Украиной. Он выдвинулся в период Гражданской войны.
Служил в царской армии, затем в первых кавалерийских частях Красной армии.
Как командующий Московским военным округом, он был тесно связан со Сталиным, с Кремлем, хорошо осведомлен об угрожающем положении на западных границах. Знал о сотнях нацистских перелетов через границу. Знал, что советским войскам запрещено реагировать на подобные инциденты; обстановка его тревожила. Но его, как многих других офицеров, успокоило сообщение ТАСС от 14 июня, где говорилось о безосновательности слухов насчет близкой войны. По словам Тюленева, невозможно было не верить нашим официальным органам.
В субботу 8-го ему сообщили, что звонят из Кремля[14]. Он взял трубку и услышал резкий голос Сталина: «Товарищ Тюленев, как обстоят дела с противовоздушной обороной Москвы?» Тюленев коротко доложил о состоянии противовоздушной обороны на субботу.
Сталин сказал: «Учитывая тревожную ситуацию, надо привести противовоздушную оборону Москвы в состояние боевой готовности на 75 процентов».
На этом разговор окончился. Тюленев не задавал вопросов и, вызвав своего начальника противовоздушной обороны генерал-майора М.С. Громадина, дал указание: не посылать зенитные батареи в летние лагеря, а привести их в полную боевую готовность.
И еще одно решение было принято 21 июня, возможно по случайному совпадению, – о создании единого командования противовоздушной обороны Москвы; приказы были подписаны и переданы полковнику И.А. Климову в 6-й истребительный корпус, который начал действовать лишь после начала войны. В дальнейшем он состоял из 11 эскадрилий истребителей, насчитывавших 602 самолета. Но 22 июня его численность равнялась… нулю.
Перед уходом генерал Тюленев связался с наркомом обороны Тимошенко и получил дополнительное подтверждение того, что немцы готовятся к войне: подозрительное движение в германском посольстве; многие сотрудники уехали – за пределы страны, за пределы Москвы. Тюленев позвонил также в Генеральный штаб. Ему сказали, что на границе, судя по докладам командиров находящихся там частей, все спокойно. Однако, по данным разведки, нападение немцев неминуемо. Об этом доложили Сталину, он сказал, что незачем поднимать панику.
Вопрос, который задал Сталин о противовоздушной обороне Москвы, не вызвал у Тюленева беспокойства. Он попросил шофера отвезти его на тихую боковую улочку – Ржевский переулок, где жил с женой и двумя детьми. Проезжая по центральным улицам, бегло просмотрел газету «Вечерняя Москва». Никаких особых новостей. Он заметил, что уже расклеены объявления о первом летнем концерте джаза Утесова в саду «Эрмитаж». В понедельник начнут демонстрировать фильм «Остров сокровищ».
Из открытого окна доносились звуки популярной песни «Любимый город…» – пели молодые голоса.
Как провести воскресенье? Поехать на дачу в Серебряный Бор под Москвой или поехать с детьми на открытие водного стадиона в Химки?
Надо будет утром решить. Заехав домой в Ржевский переулок и забрав жену с детьми, он отправился на дачу.
Рассказ Тюленева ясно показывает, что, даже если Сталин в субботу днем понял неизбежность войны с Германией, ощутил необходимость срочных мер, он скрыл это от военного руководства. Нет сведений и о каких-либо других мерах предосторожности, предпринятых им в субботу до пяти часов вечера, когда были наконец вызваны в Кремль маршал Тимошенко и генерал Жуков.
В это время в Кремле Политбюро обсуждало возможность германского нападения в субботу ночью или в воскресенье. Рассказал потом об этом заседании лишь один человек – маршал Семен Буденный, однако рассказ его рождает ощущение какой-то нереальности[15]. Присутствующим предложили высказаться о том, как следует поступить. Буденный предложил приказать войскам, находящимся к востоку от Днепра, двигаться в направлении границы: «Нападут немцы или нет, войска будут на позиции».
Ни Буденному, ни другим, кажется, не пришло в голову, что такой план двинул бы тысячи солдат по шоссейным и железным дорогам, сделав их удобной мишенью для германских пикирующих бомбардировщиков.
Кроме того, Буденный предложил снять канаты со всех самолетов, привести их в боевую готовность № 1. Обычно советские самолеты прикреплялись к земле веревками и проволокой. Предложение Буденного означало, что самолеты высвободят и советские пилоты будут сидеть в своих кабинах, готовые к взлету.
Буденный предложил также, чтобы на Днепре и Западной Двине от Киева до Риги была создана линия глубокой обороны. Он предложил мобилизовать население с лопатами, ломами и превратить берега этих рек в непреодолимые противотанковые заграждения. Он полагал, что такая линия обороны, очевидно, понадобится, поскольку немцы в полной боевой готовности, а советские войска нет.
Последовало обсуждение. Вмешался Сталин: «Буденный, кажется, знает, что делать; вот пусть он и командует».
И Буденный тотчас был назначен командующим советской Резервной армией с непосредственной задачей – создать Днепровскую линию обороны. Георгия Маленкова назначили комиссаром. Это было сделано за 9 часов до немецкого нападения. Для осуществления задачи у Буденного не было ничего – ни штаба, ни войск, ни техники, ничего совершенно. Он поспешил на улицу Фрунзе, где должен был находиться штаб его армии, предупредив Маленкова, что позвонит ему, как только сформирует штаб[16].
Адмирал Кузнецов полагает, что примерно в это время Сталин, должно быть, решил привести советские вооруженные силы в состояние боевой готовности и приказать в случае необходимости оказывать немцам вооруженное сопротивление.
Вот отчего перед Тимошенко и Жуковым лежала кипа телеграмм, когда в воскресенье в 11 вечера Кузнецов прибыл по вызову в Наркомат обороны. Они, полагает Кузнецов, работали по указанию Сталина, составляя для воинских частей приказы о боевой готовности. Эти приказы фактически не были отправлены до 12 часов 30 минут дня 22 июня. Видимо, указания, которые Сталин мог дать на заседании Политбюро, должны были выполняться в зависимости от дальнейших событий этого вечера, например от возможной встречи с Риббентропом[17].
Кроме того, было сделано следующее. В пограничные военные округа и на флоты направили специальных представителей Верховного главнокомандования, чтобы предупредить об опасности, а также дать указания о переводе частей на боевую готовность.
Именно по такому поводу оказался в субботнюю ночь генерал Мерецков в поезде «Красная стрела», направлявшемся в Ленинград. Но поскольку представителей Главного командования отправили в железнодорожных поездах, которые не могли прибыть раньше воскресенья (а в отдельных случаях – понедельника), вряд ли в Кремле существовала уверенность, что немцы нападут через несколько часов[18].
Тексты предупреждений, которые рассылали Тимошенко и Жуков (многие были получены уже после нападения немцев), лишь призывали к осторожности. Частям предписывалось быть в готовности, но запрещалось осуществлять разведку на территории противника. Строго предписывалось избегать провокаций.
В ту субботнюю ночь у адмирала Кузнецова возник серьезный вопрос.
«Я не мог отделаться от мучительных мыслей, – вспоминал он впоследствии. – Когда нарком обороны (Тимошенко) узнал о возможности нападения фашистов? Когда ему приказали перевести войска на боевую готовность? Почему приказ о боевой тревоге на флотах не отдало правительство (Сталин) вместо наркома обороны? Почему все это сделали так полуофициально и так поздно?» Через 25 лет на вопрос адмирала все еще не было исчерпывающего ответа.
8
«Хозяин» – старое русское слово, означающее «помещик», «барин». Так называли крепостные своего владельца. Бюрократы обычно так называли Сталина.
9
Деканозов был много лет сотрудником госбезопасности, сподвижником Лаврентия Берии, начальника НКВД. В ноябре 1940 года ездил с Молотовым в Берлин на переговоры с Гитлером и Риббентропом, после этого стал советским послом в Берлине. Расстрелян вместе с Берией 23 декабря 1953 года.
10
В официальной советской истории приводится следующая цифра: 152 случая нарушения воздушных границ Советского Союза с 1 января 1941 года до начала войны (Поспелов П.Н. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945. М., 1961. Т. 1. С. 479).
Командование Украинского и Белорусского военных округов сообщало о 324 случаях перелета через границу за период с 1 января до 20 июня 1941 года (Платонов В.В. Это было на Буге. М., 1966). Приводятся данные из газеты «Красная звезда» от 14 апреля 1965 года.
11
По словам Измаила Ахмедова, сотрудника госбезопасности, назначенного в берлинское посольство в мае, Деканозов в субботу получил донесение от агента о том, что нападение произойдет на следующий день, но велел сотрудникам не думать об этом и в воскресенье поехать на пикник (Даллин Давид. Советский шпионаж. Нью-Хейвен, 1955. С. 134).
Бережков не упоминает имени Деканозова, не говорит о его встрече с Вайцзеккером. Поскольку Деканозов был в 1953 году расстрелян, он как бы и вообще не существовал.
12
Самое последнее предупреждение поступило от него в среду, 18 июня.
13
Разговор Деканозова с фон Вайцзеккером состоялся лишь в 19 часов 30 минут вечера по берлинскому времени (по московскому времени – в половине двенадцатого). Деканозов сообщил о результате переговоров срочной телеграммой, которая не могла быть передана или расшифрована до часа ночи (или до 1.30). Обычно телефонная связь между Москвой и Берлином устанавливалась очень быстро, за 10–15 минут, максимум за полчаса. Но посольство обычно передавало свои донесения по телеграфу (Бережков В., личное сообщение, март 1968; Филиппов И.Ф. Записка о Третьем рейхе. М., 1966. С. 24).
14
Кузнецов указывает время: 2 часа дня. Тюленев лишь упоминает в своих мемуарах, что это было в субботу днем.
15
В мемуарах таких видных военных деятелей, как Тюленев, Кузнецов, Воронов и Жуков, это заседание не упоминается. Ничего о нем не сказано и в официальной советской истории. Буденный не указал, кто именно присутствовал на заседании (Буденный С., личное сообщение, июль 1967).
16
Многие советские источники подтверждают, что Буденного назначили командующим Резервными войсками и ему было приказано направить резервные армии к Днепровскому рубежу. О решении Политбюро от 21 июня сообщают В. Хвостов и А. Грылев (Коммунист. 1968. № 12).
17
Это подтверждается тем фактом, что 22 июня в 4 часа утра Молотов отправил Деканозову срочную телеграмму, в которой сообщалось содержание беседы Молотова с Шуленбургом и особо указывалось на необходимость задать Риббентропу или его заместителю те три вопроса, на которые не ответил Шуленбург: в чем причины неудовлетворенности Германии отношениями с Советским Союзом, какие существуют основания для слухов о надвигающейся войне между Советским Союзом и Германией, почему Германия не ответила на заявления ТАСС от 14 июня (Израэлян В.Л., Кутаков Л.Н. Дипломатия агрессоров. М., 1967. С. 184). Но возможности задать эти вопросы Деканозов так и не получил.
18
Другой заместитель наркома обороны, маршал Г.И. Кулик, направленный в Западный особый военный округ, прибыл в Белосток, в штаб 10-й армии, лишь в понедельник вечером 23 июня. Генералу И.В. Болдину тогда показалось, что он ошеломлен и растерян. Всего через несколько часов командующий армией генерал-майор М.Г. Хазилевич был убит, а 10-я армия фактически разгромлена.