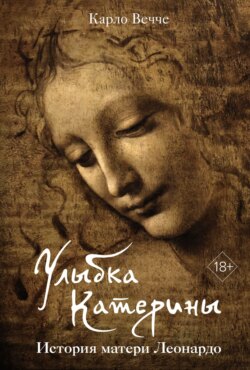Читать книгу Улыбка Катерины. История матери Леонардо - - Страница 2
2. Иосафат
Неглубокая топь в окрестностях Таны[16], июльское утро 1439 года
ОглавлениеЧто я вообще забыл в этом мерзком болоте?
Вода, просочившись в сапоги, уже поднялась мне выше чулок, аж до самых штанов. В зарослях камыша посреди этой илистой топи стоит удушливый зной. Под тяжестью стальной кольчуги я весь взмок. Вооруженные стычки мне в новинку, так что меча из руки не выпускаю. Но боюсь до дрожи. Ситуацию усугубляет шлем, древний, с забралом, который я еще и под подбородком застегнул, поскольку черкесы чертовски хороши в обращении с луком, выцеливая, по обыкновению, глаза или шею. Меня заставили измазать металл грязью, чтобы солнечные блики не выдали нашей позиции. Но комары проникают даже через такую сбрую: я чувствую, как они кусают меня под рубахой и в шею. Глядишь, в этой мутной водице и пиявки водятся, но отогнать их я все равно не могу, руки-то заняты: в одной меч, чтобы прорубаться через камыши, другой тяну за собой лошадку.
Я замираю. Впереди, не далее чем в одном полете стрелы, березовая рощица. Странная, неестественная тишина. Даже птиц не слышно. Только зудение этих треклятых комаров. И снова накатывает непереносимый страх, от которого у меня внутри все скручивается. Должно быть, нас уже заметили и теперь целят стрелы, попрятавшись за деревьями. В этой игре глазом не успеешь моргнуть, как охотник с добычей поменяются местами. В любую секунду может раздаться свист, и я пойму, слишком поздно, конечно, что стальное острие насквозь прошило кольчугу и в клочья разорвало сердце. Я молча подаю знак остальным остановиться и укрыться в камышах. Теперь им нужно только дождаться сигнала.
Я закрываю глаза. Именно в такие моменты воспоминания о родном городе наиболее ярки. Городе, что кажется сотворенным из воды и камня, хотя на деле соткан из снов: лабиринте каналов и канальчиков, улочек-калле, крытых переходов и темных подворотен, площадей-кампо и тесных перекрестков; глядящей на лагуну пьяцце Сан-Марко с куполами собора и розовой филигранью Дворца дожей; родительском доме у церкви Санта-Мария-Формоза.
Оставшись после смерти моего доброго отца Антонио сиротой, я быстро возмужал. Тогда меня запихнули в грамматическую школу, чтобы выучил как следует сперва латынь, потом законы, да служил Республике на самых высоких и почетных должностях, вроде прокуроров, советников или наместников, а то выше: глядишь, и до шапки дожа недалеко. Денег, згей, предки заработали вдосталь, так что хватит с нас: не нужно больше пачкать руки торговлей, законной или не слишком, комиссионными, тяжким и унизительным общением с евреями, турками и прочими негодяями-язычниками по всему свету, не нужно задыхаться в смрадных, провонявших экскрементами трюмах галей с риском сгинуть в кораблекрушении. То ли дело: жить себе синьором, выстроить роскошную виллу на терраферме[17], в сияющей парче по пьяцце расхаживать… Едва двадцатилетним меня ввели в Большой совет, назначили avogador ad curiam forestieri[18], но дворцовые залы и весь этот замкнутый, полный интриг и борьбы за власть мирок с первого взгляда стали мне отвратительны.
Я чувствовал: за стенами дворцов ждет настоящий мир, мир из цветов, запахов, языков и звуков, что, сходя в утлые лодчонки с больших кораблей под знаменем крылатого льва, легко достигают лавок и причалов на Большом канале и канальчиках поменьше: пестрые одеяния восточных торговцев, парча и шелка, золото, серебро и драгоценные камни, тысячи пахучих приправ и эссенций, тысячи языков, слившихся наконец воедино на рынках Риальто. Мир без границ, который я представлял еще мальчишкой, слушая рассказы путешественников, посещавших дом Барбаро, или моряков, хваставших в какой-нибудь лавке женщинами, покоренными или купленными в портах Востока; или часами разглядывая тщательно выведенные на пергаменте румбы каталонских портуланов[19], столь ревностно хранимых в доме дяди, и выдумывая потом необычайные путешествия по маршрутам, указанным этими розами ветров. На пергаменте все это было таким простым и таким близким…
Участь моя в грамматической школе казалась мне тюрьмой куда худшей, чем та, что досталась заключенным в Пьомби[20]. Сквозь прутья решетки на первом этаже я смотрел на улицы Риальто, очаровываясь видениями надушенных восточных рабынь в прозрачной, облегающей тела кисее, их крохотных ножек в мягких туфлях без каблука, то обнажавшихся, завлекая очередного клиента, то скрывавшихся снова, хотя и не слишком быстро. К величайшему стыду моего наставника, я засыпал на текстах Цицерона, а просыпался на тех, что рассказывали о невероятных путешествиях или античных мифах, вроде «Метаморфоз» Овидия. И как же поражен был наставник, считавший меня косным и неспособным к наукам, когда я изъявил желание учить греческий, который сам он прекрасно знал, поскольку бывал ни более ни менее как в Константинополе, где брал уроки у лучших византийских учителей. Слушать его речи мне нравилось только тогда, когда он рассказывал об огромном городе с золотыми куполами и статуями, а я мечтал однажды там побывать; и после, когда нами читались и переводились отрывки из Геродота, Арриана, Ксенофонта и Страбона.
Дома я тайком доставал и жадно читал книги, написанные на простонародном или французском: историю Александра Македонского, романы и кантари[21] о путешествиях и любовных приключениях в Средиземноморье, вроде «Филоколо» мессера Джованни Боккаччо, «Прелестной Камиллы» Пьеро да Сиена и «Восточной царицы» Антонио Пуччи, «Истории Аполлония, царя Тирского», хроник Иоанна де Вандавиллы[22] или «Сферы» Горо Дати, одолженной мне одним флорентийским купцом и богато украшенной миниатюрами, в заключительной части изображавшими сказочный Восток; но главным образом хроник невероятного путешествия в страну Гаттайо, совершенного одним из членов семьи Поло, именем Марко Эмилионе. Наступит день, мечтал я, когда мне самому доведется описать свои путешествия.
Семья принудила меня жениться на дочери одного из самых знатных и богатых патрициев Республики, Ноне Дуодо. Но разве мог я отказаться от своей мечты? И вот, когда Сенат назначил моего тестя Арсенио Дуодо консулом колонии Тана, я под предлогом его сопровождения распрощался с женой, новорожденными детьми и в лето Господне 1435, взойдя на борт ромейской галеи, отправился на край света, в самый дальний порт венецианской империи.
Мне было всего двадцать два. В скудном багаже я вез кое-какие из самых любимых моих книг, в том числе «Сферу», так и не возвращенную флорентийскому купцу, и одолженный у дяди каталонский портулан; прочие же книги я сохранил в голове, откуда, как не раз говаривал мой наставник, никому не под силу было бы их украсть. После нескольких недель плавания по Адриатике и Эгейскому морю нам с моим тестем Арсенио и его секретарем, священником-нотариусом Никколо де Варсисом, пришлось сделать долгую томительную остановку в Константинополе, поскольку судовладельцы, недовольные скудностью платы, отказались продолжать путь за пределы проливов. Довольно скоро я обнаружил, что столица империи, грезившаяся мне столь великолепной, на деле является мрачным и зловонным вместилищем всех пороков и отбросов мира. А виденные мимоходом колоссальные византийские здания, дворцы и церкви, показались мне смертельно больными стариками, чей многолетний упадок грозил со дня на день оборваться неминуемым Апокалипсисом.
Желая как можно скорее продолжить свой путь, я предпочитал проводить время, путешествуя при помощи карандаша по румбам на страницах портулана, в запальчивости своей воображая то, что мог бы увидеть: легендарную столицу другой империи, Трабезонд; но главное – мифические земли, о которых я читал в античных текстах: Херсонес и Колхиду, которую теперь называли Менгрелией, цель путешествия Ясона и аргонавтов, искавших золотое руно, и родину племени женщин-воительниц, амазонок, сама мысль о которых будоражила мое воображение; и это еще не считая столь же мифического Меотийского болота, Боспора Киммерийского и владений легендарных народов, скифов, сарматов и половцев.
Однако ничего из того, что грезилось за портуланом, мне увидеть не удалось. Когда мы с первым попавшимся кораблем наконец отплыли из Константинополя, то, подгоняемые свежим, но непредсказуемым ветром начинающейся весны, взяли курс строго на север, в сторону Газарии и генуэзской колонии Каффа. Такому повороту я не слишком обрадовался. Генуэзцев я не любил – должно быть, это чувство, разделяемое всеми моими согражданами, досталось нам в наследство от предков, – хотя перед отплытием мне объяснили, что Большое море принадлежит Генуе практически целиком, и если мы хотим пересечь его в мире и спокойствии, с ними придется иметь дело. Да и потом, сами звуки этого имени, Каффа, немедленно вызывали леденящие душу воспоминания: ходили слухи, что именно оттуда почти сто лет назад пошло страшное моровое поветрие – черная смерть, опустошившая Европу.
Ветер, поначалу благоприятный, на полпути внезапно стих. Долгими днями тяжело груженная галея, переваливаясь с одного борта на другой, продвигалась сквозь легкую дымку штиля только силою весел. Я страдал морской болезнью, меня невыносимо мутило от запахов, что исходили от скамей гребцов и испорченной вяленой рыбы. Потихоньку заканчивалась питьевая вода, от развившейся цинги у меня выпали два зуба, и я поклялся себе больше никогда в жизни не пускаться в морское плаванье. Моя исследовательская карьера стартовала крайне неудачно.
В конце концов на горизонте снова появилась земля, однако ничего грандиозного или легендарного в ней не было. Меотийское болото теперь носило малопоэтическое название Забахское море, поскольку в его неглубоких водах то и дело можно было увидеть огромные стаи сардин, именуемых здесь забах. Ветер и течение, сбив корабль с курса, отнесли его на восток, и капитан решил отказаться от захода в Каффу: мы лишь сделали короткую остановку в генуэзском порту Матрега[23], уже в самом проливе, чтобы пополнить запасы пресной воды и свежих продуктов, а после продолжили путь.
Двигаться на север, вдоль пологих берегов, переходящих в топи и болота, к устью великой реки Таны, снова пришлось на веслах. Говорят, река эта такая длинная, что никто не знает, откуда она проистекает: быть может, из самого рая земного. Галея поднималась по ее спокойному течению, пока дозорный с верхушки мачты не заметил по правому борту башни последнего обитаемого города этой части света. Сойдя наконец на берег, я с трепетом в сердце прошел подо Львом святого Марка, что высечен над воротами. Не исключено, что дальше этого места Лев со своей огромной, раскрытой на середине книгой и впрямь не забирался.
Впрочем, Тана тоже не показалась мне сказочным городом, рассказы о котором я мальчишкой слышал от стариков, побывавших здесь еще в прошлом веке, городом, которому всего несколькими месяцами ранее кое-кто в Сенате сулил радужные перспективы восстановления. Реальность оказалась совсем иной, как иной была и Тана прошлого: ярмарка удачных возможностей, рискованных приключений и неожиданных богатств, конечная точка северной ветви Великого шелкового пути, куда тянулись караваны из Астрахани, Самарканда и даже Гаттайо. Следом в Тану хлынули драгоценные китайские и персидские шелка, ковры, пряности, фарфор, бронза и золото. А после явился Тамерлан со своими всадниками Апокалипсиса и все здесь сжег.
Венецианцы начали осторожно возвращаться в Тану лишь несколько лет спустя. Они возобновили приятельские отношения с татарами, которые, даже смягчив немного свой нрав, всегда были готовы напасть и разграбить колонию. С разрешения этих беспокойных соседей, умиротворяемых уплатой терратико, земельной подати, и коммеркиев или тамги, пошлины за торговлю, они снова принялись сооружать лавки и склады, а главное, кольцо крепких стен и башен, с тремя воротами и высоким донжоном. В город вернулись солдаты, перекупщики, ростовщики и сводники всех мастей, народностей, языков и религий. Священники и монахи воздвигли несколько церквей и колоколен, чуть выше и приметнее, чем башни и стены. В зловонном переулке за кабаком снова открылся публичный дом, лишившийся, правда, былого великолепия и оживляемый ныне лишь несколькими местными красавицами, давно поблекшими и располневшими, переговаривающимися на собственном наречии, в котором мешались все городские языки. Не вернулись лишь караваны золотого века. Купцы теперь предпочитали водный путь через Красное море в Индию, а кое-кто отваживался даже выходить за Геркулесовы столпы. С уменьшением числа караванов с Востока реже стали приходить и торговые галеи из Венеции, отныне груз их на обратном пути все больше состоял из товаров местных или привозных из северных степей и южных холмов: проса и гречки, шкур и мехов, воска, соленой рыбы и икры, а если повезет, то и меди или золота из горных копей.
В границах стен оставались еще обширные пустыри, где ветер шелестел в зарослях камыша и чахлого кустарника над вросшими в землю руинами или поднимал тучи сухой пыли, что с осенними дождями оборачивалась непролазной грязью, а зимой – сверкающей коркой льда.
Та первая зима в Тане стала для меня самой тяжелой. Вскоре я подхватил лихорадку и долго страдал изматывающими приступами кашля. Вернуться в Венецию мне уже не удалось: в октябре погода ухудшилась, прервав всякое морское сообщение. Я обнаружил, что жизнь в Тане, изолированной от остального мира, напоминала миф о Прозерпине: полгода под солнцем, среди живых, и полгода во тьме, в загробном мире, среди мертвецов. Северный ветер завывал без перерыва, неизменно находя способ пробраться сквозь щели в обшарпанных ставнях. Затем начался снегопад, пока наконец не замерзли и широкая река, и даже море, по крайней мере на сколько хватало глаз. Все казалось недвижным и безжизненным. Надеясь пережить суровую зиму, люди, словно насекомые, жались к кострам или очагам в глубине своих домов и лавок, полных вонючего дыма, грязи и крыс.
Я отдавал себе отчет, что если не хочу по весне с первым же кораблем униженно возвращаться в Венецию, то должен срочно что-нибудь придумать: стать независимым от тестя, высунуть голову из этой отвратительной Таны и начать исследовать окрестности, все эти области с загадочными названиями, вроде Тартарии, Руси, Кумании, Алании, Газарии, Черкесии, в поисках приключений, славы и богатства, которых я заслуживал. А кратчайшим путем к богатству в этой захудалой Тане, так и не оправившейся после разорения Тамерланом, была торговля живым товаром.
Глядя на благообразные лица нотариусов и священников, трудно было поверить, что вокруг работорговли вращается практически вся местная экономика. Мужчины, молодые и сильные, славяне, татары или черкесы, по-прежнему пользовались спросом на восточных базарах, особенно в Египте, где правила династия мамлюков, бывших на самом деле не кем иным, как черкесскими рабами султанов: впрочем, после протестов властителей Кипра, видевших в этой торговле лишь укрепление власти неверных, она была формально запрещена. В Венеции, напротив, спрос был главным образом на женщин и особенно девушек, которых отсылали работать в ткацкие мастерские или брали в дом в качестве прислуги: подметальщиц, кормилиц, сиделок для детей и стариков, а зачастую, втайне от жены, родни и священников, и для удовлетворения особых, куда более сокровенных запросов хозяина дома. Но в таком городе, как Венеция, все, разумеется, обо всем знали, хотя и делали вид, что не подозревают.
Сделки эти, какими бы скрытными и грязными они ни были, обладали видимостью законности и даже скреплялись нотариусом Республики, обычно специализирующимся на подобных делах, с составлением акта, который давал владельцу право совершать с новоприобретенным имуществом любые действия, какие только могут быть совершены с вещью или товаром: перепродавать, сдавать внаем, дарить, завещать. А когда вещь ломалась, ветшала или становилась негодной, ее можно было попросту выбросить. Так, над старухой-рабыней достаточно было лицемерно свершить акт освобождения, чтобы после вышвырнуть ее на улицу, за ворота палаццо, просить милостыню и умирать. Все это происходило с молчаливого благословения Церкви, которая, впрочем, формально порицала работорговлю и, заботясь о духовном здравии паствы, посылала священников и монахов крестить язычниц именами святых: Мариями, Маддаленами, Катеринами, Лючиями, Бенедеттами. Нотариусов и священников всегда обступал тесный круг поверенных, перекупщиков и посредников, сходный да и смыкающийся с тем, что стоял за процветанием куртизанок.
Мне этот круг нисколько не нравился. И я не нашел лучшего, чем заняться рыбной ловлей: рыба не так пачкает руки, как работорговля. Потратив все взятые с собой цехины и заложив ростовщику-еврею свое богатое платье, я завел привычку одеваться куда скромнее и вскоре смог приобрести у одного из татарских племен право на пользование тоней[24] со своими сушильней и солильней в месте, называемом Бозагаз[25], что вверх по великой реке, в сорока милях к востоку от Таны. Задумка оказалась неплоха и окупилась в кратчайшие сроки, поскольку вяленая рыба была одним из немногих товаров, крайне востребованных венецианскими морскими караванами-мудами, насущной пищей для моряков в тех дальних плаваниях по Средиземноморью, какие невозможно совершить, просто лавируя вдоль берега. Жаль только, что запах рыбьих потрохов, навевавший воспоминания о путешествии морем, вызывал у меня тошноту и вечно лип к одежде и рукам безо всякой надежды его смыть.
Когда реки снова стали покрываться льдом, склады уже ломились от вяленой и соленой рыбы, заготовленной на следующий сезон, к приходу муды. Теперь, почувствовав, что неплохо устроился в Тане, я начал общаться и даже заводить дружбу с татарскими племенами, жившими в окрестностях города. На тоню свою я нанял, вместе с парой ублюдков, рожденных от венецианцев местными женщинами, нескольких татар, а те, к моему удивлению, привели с собой рабов, русских или черкесов, на которых и возложили всю тяжелую работу, чтобы самим, как они заявили, надзирать, только забирая плату. Если так поступал парон Юсуф, хозяин Юсуф, как меня теперь звали, сидя на колченогой табуретке посреди собственного склада, отчего бы им тоже просто не посидеть и не посмотреть?
Я, Юсуф, прекрасно ладил с этими милыми мошенниками и в то же время поглядывал, чтобы они не слишком тиранили своих рабов. Я запретил пользоваться кнутом и следил за тем, чтобы на всех доставало еды. А сам понемногу стал учить татарский язык и даже одеваться начал, как они, в мешковатые штаны, заправленные в сапоги, тяжелую соболью шубу, раз и навсегда решившую проблему простуды, и остроконечную шапку-футряну, отороченную песцовым мехом. В сундуке копились згей: цехины, дукаты и серебряные византийские асперы, дирхамы и прочие самые странные и невероятные монеты, что были в ходу у этих варваров. Я сменил место жительства, купив каменный дом с просторным залом, двором, конюшнями и огородами у самой городской стены, поскольку предпочитал свежий запах полей, а не вонь лавок, лепившихся друг к другу на площади и вдоль берега. Еще немного, и я бы оставил Тану, отправившись исследовать огромный континент, который не смог бы окинуть взглядом, даже взобравшись на самую высокую башню.
Страсть к познанию мира, о котором я читал в античных книгах или слышал от наставника, владела мною всегда. Еще в ходе первых вылазок верхом на лошади в сопровождении пары слуг я пытался определить местонахождение древнегреческой Таны и даже, как показалось, узнал ее в облупившихся стенах, которые раскопал в грязи на северной стороне речной дельты, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме совершенно порозовевшей от времени древней монеты. Отъехав чуть дальше, я заметил, что в степи нередко встречались более или менее высокие насыпи, вероятно, бывшие старыми захоронениями, которые в народе зовутся курганами. Некогда один из таких курганов, названный Контеббе, был испещрен колодцами, которые в течение двух лет копал египетский искатель приключений по имени Гульбедин. Этот Гульбедин приплыл из Каира в поисках баснословного сокровища, которое, по словам одной татарской рабыни, спрятал там Индиабу, последний царь аланов, прежде чем его народ был истреблен Тамерланом. Гульбедин умер, так ничего и не найдя, раскопки были прекращены, но слухи о кладе ходили по-прежнему.
И вот однажды, холодной и ненастной ноябрьской ночью, я оказался в доме купца Бортоламио Россо в компании еще пяти весьма достойных собутыльников: Франческо Корнарио, Катарина Контарини, Дзуана Барбариго из Кандии, Мойзе Бона д’Алессандро с Джудекки и Дзуана да Валле, который, побывав капитаном фусты в Дербенте на Каспии, успел снискать нелестную репутацию пирата, грабившего идущие из Астрахани корабли неверных. Мы выпили много отличного кипрского вина, привезенного Бортоламио, и уже переключились на граппу, в полный голос коверкая все песни гондольеров, какие только могли вспомнить.
Кончилось это шумное сборище тем, что мы всемером образовали товарищество с целью отыскать таинственное сокровище Контеббе. Инструменты для раскопок и строительства, заказанные Корнарио в Константинополе для укрепления стен, прибыли еще в июле. На клочке бумаги в пятнах от вина и жира Катарин составил контракт, слова которого из-за нетвердой руки и затуманенных вином глаз купца ползли вкривь и вкось. Был канун дня святой Екатерины Александрийской, той, что изображается с колесом, и в качестве восьмого участника, который принесет нам удачу и добрую прибыль, я предложил саму святую Екатерину, в которую после прочтения «Золотой легенды» Иакова Ворагинского бесповоротно уверовал. Конечно, я был слегка навеселе и лишь потому без конца повторял приятелям, что святой Екатерине тоже необходимо выделить долю добычи: справедливую осьмину, которую должно поднести в дар ее иконе в церковке Сан-Франческо, обители доброго епископа Франческо, поскольку тамошние монахи помогали милостыней беднякам и бывшим рабыням. Многих из них, в большинстве своем звавшихся Катеринами, я часто видел перед образом их покровительницы на коленях вымаливающими кусок хлеба.
Затея наша, предпринятая дважды, поздней осенью и ранней весной, закончилась полным провалом. Мы копали, копали, но так почти ничего и не нашли. И святая Екатерина нисколько не помогла, ибо тревожить сон мертвых – дело нечестивое. В Тану мы вернулись побежденными, и татары долго еще насмехались над нами, перекрестив разрытый курган во «франкскую яму». Я совсем пал духом, и не столько даже из-за дукатов, впустую потраченных на раскопки. Из величайшего исследователя древностей я превратился в мелкого расхитителя могил и начал все чаще взбираться на башню, оглядывая с высоты бескрайние степи и мечтая поскорее сбежать из Таны.
Именно с этой башни я, так никуда и не сбежав, в тепле и уюте наблюдал следующей зимой грандиознейшее зрелище: переселение народов. К Тане под предводительством хана Кичи, прозванного Малым Мухаммедом, приближалась часть татарской орды. Она вилась среди замерзших рек, будто гигантская змея, состоящая из людей и животных. Сперва появились отряды всадников, десятки, затем сотни: целый лес копий, знамен, высоких остроконечных шлемов и причудливых, отороченных мехом шапок. Потом, много дней спустя после начала этого бесконечного шествия, прибыл и сам хан, который вместе со свитой, родичами и наложницами расположился на расстоянии выстрела из лука от стен Таны, в разрушенной древней мечети.
По городу расползались страх и тревога. Купцы заколачивали мастерские и склады, евреи и армяне, памятуя о кровавых бойнях прошлого, запирались в своих похожих на крепости домах без окон. Ворота городской совет из осторожности решил оставить закрытыми, больше опасаясь не набега или осады, а болезней. И в самом деле, в былые времена в грязной и голодной массе людей и животных, что следовали за Ордой, скрывались ядовитые гуморы Черной Смерти, распространявшиеся с рулонами доставленных на продажу тканей или надушенными покрывалами проституток. Поговаривали, правда, что закрывать ворота бесполезно: крысы все равно пролезут сквозь щели, известные только им одним.
Пришлось немедленно направлять посольство. Консул приготовил три сундука с подарками: рулоны драгоценного шелка, а также испеченный с пряностями хлеб, медовое вино и бузу, иначе пиво; один сундук для хана, другой для его матери и третий – для командующего войсками Науруса. Доставить их он, естественно, поручил своему зятю Иосафату, то есть мне, к тому времени уже вполне смахивающему на атартарадо, полутатарина, еще и потому, что никто другой ехать не хотел. Вне себя от гордости, в татарском платье, я вошел в мечеть, где впервые повстречал одного из тех великих князей Востока, что повелевали жизнью и смертью миллионов людей: двадцатидвухлетнего юношу со скучающим взглядом, который, возлежа на ковре, вертел в руках украшенный драгоценными камнями кинжал; его могучий полководец Наурус выглядел не старше двадцати пяти.
Наурус представил меня своему господину как посла франков, поскольку именно так все они называли нас, западных латинян, независимо от того, были ли мы генуэзцами, венецианцами, французами или каталонцами. В тот миг я ощутил себя по-настоящему важной персоной: ведь встречались два мира, две цивилизации, и в моем лице пред варварством язычников и неверных стоял весь великий Запад, древние греки и римляне, христианство, папа, император и моя Светлейшая Республика Венеция. Мысль о том, что мне, Барбаро, выпала честь встретиться с князем варваров, вызвала у меня улыбку.
Заметив кивок Науруса, я опустился на колени и приветствовал хана татарской фразой, которую выучил наизусть: салям рахим итегез, мир вам и добро пожаловать. Дальнейшие мои слова, сказанные по-венециански, с грехом пополам перевел драгоман-переводчик: вместе с дарами я препоручал город защите и благосклонности владыки. Хан, не поднимая глаз, ответил, что милостиво принимает подношение и что город под его покровительством может считать себя в полнейшей безопасности.
Повисло неловкое молчание. Хан продолжал поигрывать кинжалом, и я не знал, что делать дальше. Снова, без разрешения, взять слово? Повернуться и уйти? Даже речи быть не может. Хан поднял голову, оглядел меня и моих нескладных товарищей по посольству, а потом вдруг принялся хохотать и хлопать в ладоши, булькая и глотая слова, которые драгоман торопливо пытался мне перевести: что же это за город, где на троих приходится всего три глаза? Наурус и другие сановники и воины смеялись вместе с ним, хотя лишь мгновение назад казались суровее и неподвижнее статуй. Я обернулся к своим спутникам: драгоман Буран Тайапьетры имел лишь один глаз; один был и у грека Дзуана, консульского жезлоносца; а также и у человека, что нес медовое вино.
Так и закончилось первое великое посольство мессера Иосафата Барбаро, известного как Юсуф, глашатая консула Таны, к великому хану Орды. Консулу же пришлось распахнуть ворота, дабы впустить восседающего на спине изможденного мула татарского мытаря Коцадахута, потного и жирного, назначенного ханом для сбора тамги, пошлины со всех поступающих в Тану товаров, вдобавок предоставив ему и его свите безлюдное место у самых ворот и рядом с моим домом, в полуразвалившемся караван-сарае, обнесенном собственными стенами.
После отъезда хана снова стал подходить народ со стадами, и шли они целых шесть дней: множество людей и повозок, бескрайние табуны лошадей, верблюдов, волов и всякой прочей домашней скотины. Везли с собой и жилища, деревянные каркасы, порой в несколько ярусов, поставленные на большие телеги и крытые камышом, войлоком или тканью. Я зачарованно смотрел на них со стен Таны. Они казались мне видением Судного дня, когда человечество вкупе с другими живыми существами призвано будет держать ответ за свои деяния перед Всевышним.
Только месяц спустя предстояло мне узнать, куда подевалась вся эта орава. Когда лед сошел и я смог подняться на лодке до своей тони у Босагаза, то был неприятно удивлен, обнаружив, что, хотя рыбаки зимой, в том числе подледным ловом, заготовили и засолили много лаврака и осетра, затем пришли тысячи и тысячи татар, голодных, словно саранча. Рыбаки разбежались, попрятавшись за деревьями. Татары забрали всю рыбу, соленую и несоленую, всю драгоценную икру и даже соль – крупную, дорогую, прекрасно подходящую для консервации; они разбили бочки, растащив доски на починку телег, разломали мельницы для соли, чтобы выкрасть железные сердечники. С тоскою созерцал картину этого разорения и бесславный конец моей столь многообещающей карьеры рыбопромышленника. Не слишком утешало даже то, что всю икру, не менее тридцати предусмотрительно зарытых в землю бочонков, украли и у моего нечистоплотного конкурента, друга-врага Дзуана да Валле.
Ушли, однако, не все татары. Через два дня после их отъезда под стенами объявился ханский родич Эдельмуг, который предложил мне честь сделаться его кунаком, иначе говоря, приятелем. Для этого сперва пришлось принимать его у себя в доме, где татарин вылакал весь запас драгоценных кандийских вин. Затем, полупьяный, он пожелал, чтобы я следовал за ним в большой татарский стан. Меня охватило возбуждение: наконец-то я мог путешествовать по-татарски, да еще и вместе с татарином. Мы ехали несколько бесконечных дней, пересекая еще не вскрывшиеся ото льда реки, пока наконец не достигли реки людской: это со всей степи стекались, словно муравьи, люди Орды, и каждый, признавая Эдельмуга своим господином, готов был предложить ему немного мяса, хлеба и молока. Наконец мы предстали перед ханом, который принял нас в шатре для приемов, на виду у сотен людей. И вышло так, что, привезенный пьяницей Эдельмугом, я жил с тех пор среди татар, не то как гость, не то как пленник, изучая их нравы и обычаи. Обратно в Тану меня отпустили, лишь когда Орда снова двинулась на север, разорять и грабить русские земли. Но вернулся я не один. Эдельмуг доверил мне на временное усыновление своего сына Тимура: величайшая честь, какую только может оказать татарский вельможа.
Принять Тимура было мне в радость: бойкий тринадцатилетний парнишка с раскосыми глазами и смуглой кожей стал мне, почти забывшему об оставленной в Венеции семье, как сын. Хотя и в окружении множества слуг и служанок, жил я практически отшельником. В отличие от всех прочих купцов и даже священника, время от времени подбиравших себе в лавке одного армянина, промышлявшего подобным товаром, какую-нибудь запуганную черкешенку или татарку, у меня не было даже женщины, чтобы согревать постель. В первые мои дни в Тане новые друзья сводили меня в публичный дом, но даже одного посещения мне оказалось достаточно, чтобы дать личный обет целомудрия. Вечером я предпочитал удалиться в крохотную спальню на втором этаже и побыть наедине с книгами, привезенными из Венеции, теперь уже полуистлевшими, заплесневевшими, прогрызенными крысами и изгаженными тараканами, и записной книжкой, в которую путано заносил свои заметки и воспоминания.
С Тимуром мой дом снова стал полон. Я научил его нескольким словам и даже фразам на венецианском, хотя и посмеивался над акцентом. Заглядывал в сияющие кошачьи глаза, гладил его темные кудри; в кадке, которую женщины наполняли горячей водой, не спеша омывал его стройное, гладкое тело, так напоминающее большую рыбу из тони у Босагаза. Тимур любил смеяться. И меня любил. Называл меня абзий Юсуф, дядя Юсуф.
Наступило лето. Оправившись от чувств и неприятностей, вызванных прохождением Орды, я возобновил торговлю с купцами, вернувшимися в Тану с наступлением оттепели, и даже заключил пару выгодных сделок, продав немного соленой рыбы из заново отстроенной тони, немного мехов, привезенных с гор, а теперь жду золота, обещанного мне еще год назад одним самаркандским купцом. Золото это, редкой чистоты, отправится прямиком в Венецию, в процветающие мастерские тамошних златокузнецов. Оно может прийти в любой момент, с первым же большим караваном.
Вчера поутру мы с Тимуром сходили на площадь, единственную часть города, напоминающую мне о цивилизации и моей Венеции: булыжная мостовая, торговые лавки под сенью портиков, дом консула, напыщенно именуемый «палаццо», пристроенная лоджия с нотариальной конторой, высокая лестница, откуда глашатай зачитывает постановления совета, герб со львом святого Марка, фасад церкви Санта-Мария, приземистая остроконечная колокольня.
Мы заскочили в мастерскую мастера по выделке стрел посоветоваться, куда в округе сходить поохотиться на куропаток и коростелей, гнездящихся в ложбинах пологих холмов. Вдруг я услышал какой-то шум под портиком – это прибежали татары-дозорные. Говорят, в роще, милях в трех к югу от Таны, у небольшой речушки, со вчерашнего дня расположился отряд конных черкесов, числом около сотни. Ясное дело, не ради невинной охоты они сюда прискакали: замышляют набег, могут и под стенами Таны появиться. Я сразу забеспокоился об идущем из Самарканда караване: украдут черкесы верблюда с сундуком моего золота – и пропал задаток, я ведь никакого залога не оговорил.
Тут слышу из глубины лавки голос: купец-татарин, что в Тану груз цитварного семени привез, предлагает захватить этих псов-черкесов. Да, их почти сотня, но купец тоже намерен принять участие в экспедиции, а он да слуги – уже пятеро. Я, сам не знаю почему, вмешался: могу, говорю, собрать человек сорок. Думал, кто еще присоединится, чтобы нас побольше было. Но остальные молчат, кроме татарина, а тот заявляет, что и сорока хватит: черкесы, мол, не мужчины, а бабы.
Я уже жалею, что заговорил с этим безумцем, да еще у всех на глазах. Уж мне-то хорошо известно, что черкесы – не бабы, а самые могучие и отважные воины, каких только рождала земля. В прежние годы, после Тамерланова нашествия и до появления этой новой Орды, они объединились под властью князя, чтобы изгнать татарские племена из своих неприступных гор, и во главе с легендарным и безжалостным воином по имени Яков гнали их до самой Таны. Чтобы захватить одного свирепого черкеса, нужно десятеро наших. Сотня черкесов – это в самом деле много. Но теперь отступать некуда. Я задумчиво брожу по площади, а Тимур, взволнованный предстоящим приключением, то и дело дергает меня за рукав. Наконец решаю зайти к своему другу Франческо да Валле, младшему брату Дзуана, наиболее сведущему в подобных делах, и мы с ним, тут же организовав товарищество, договариваемся, как, исходя из числа участников и степени риска, будем делить добычу. Франческо привлекает к делу армянского купца, капитана лигурийской гриппарии[26], нескольких воинов и арбалетчиков, жаждущих пополнить свое скудное жалованье, и кое-кого из старых партнеров по раскопкам в Контеббе вместе с вооруженными слугами. С Тимуром и тремя слугами-татарами нас пятеро: если захватить всех черкесов, на мою долю придется с десяток рабов, причем без всяких затрат. Неплохое возмещение за тоню. Хотя что-то всегда идет не так.
План Франческо прост. Часть наших людей, вооруженных луками и арбалетами, сойдут на берег, к пристани, и, рассевшись по лодкам, доберутся до устья одной мелкой речушки, по которой, в свою очередь, поднимутся до самой рощи, отрезав черкесам путь к бегству: заняв позицию, они выпустят белого голубя. Но как быть с Тимуром? Для его же безопасности пусть остается в лодке. Прочие, разделившись на две группы, подойдут к опушке с севера, укрывшись вместе с лошадьми среди поросшей камышом топи. Увидев голубя, они должны будут взобраться в седло и занять позицию. Потом слуга Франческо протрубит в рог, и наши люди, выскочив из засады, со всех сторон ворвутся в рощу. Вооружаться стоит легко, только кольчуги, луки, арбалеты и мечи – это же не настоящая битва, мы ведь не убивать черкесов идем, иначе прощай нажива. Однако тех, кто станет яростно сопротивляться, лучше прикончить сразу: они, как неукротимые звери, никогда не смирятся с жизнью раба и вечно будут пытаться сбежать или поднять бунт.
Я открываю глаза. Сколько уже прошло? Десять секунд, десять лет? И вдруг слышу какой-то шум. Оглядываюсь и сквозь прорези забрала замечаю на опушке, с той стороны камышей, мальчишку, ведущего за собой кобылку. Гнедая, шерсть лоснится, на лбу белое пятно, напоминающее звезду. Помнится, на площади в Тане мы спорили, как делить пленников: а что же лошади? О них мы позабыли. Такую гнедую я бы взял. Может, и вместе с мальчишкой, одетым по-черкесски, в богато расшитой шапке темного войлока и с сабелькой за поясом. Рабы из детей лучше, чем из взрослых. Их проще обучить – или более уместно здесь будет сказать «взрастить»? Впрочем, они бывают и хуже диких зверей, ничего не зная о цивилизованной жизни.
Похоже, мальчишка нас не заметил. Видя, что один из татарских лучников уже готов спустить тетиву, я жестом велю ему опустить лук. А когда оборачиваюсь снова, мальчишка уже скрылся среди деревьев: точнее, мне кажется, я вижу его рядом с другой фигурой, повыше, что, выйдя из рощи, его обнимает. Мы снова застываем. Нужно дождаться взмывающего в небо белого голубя – сигнала от подходящих сейчас по узкой речушке лодок, и только тогда, оседлав лошадей, занимать позиции, а после под звуки рога со всех сторон броситься на черкесов.
Однако сигнал застает нас врасплох: никто не видел голубя, никто не готов к атаке. Проклятье, если что-то пойдет не так, эти черкесы порежут нас на куски! Мы спешно пытаемся выбраться из топи и сесть на коней, а вокруг уже свистят первые стрелы. Татарин рядом со мной пытается натянуть лук, но получает стрелу в горло и падает замертво, из раны хлещет кровь. Проклятье, кричу я безмолвно, словно во сне, – а может, это и есть только сон, дурной сон. Потрепанный шлем, который мне одолжил Франческо, явно остался от какой-то давней войны с генуэзцами, в нем почти ничего не видно. Я пытаюсь взобраться на лошадь, но поскальзываюсь и падаю в грязь. Сейчас не до показного геройства. Слуга-татарин помогает мне вставить ногу в стремя, а все вокруг уже с криками бегут и скачут в сторону рощи, и я тоже кричу, и пришпориваю коня, и скачу с саблей наголо, строя из себя полководца, которым никогда не был.
Но, еще не успев добраться до рощи, я вдруг вижу, как среди деревьев несутся бешеным галопом черкесские всадники. И цель их вовсе не в том, чтобы опрокинуть и стоптать конями наш строй, – они мчатся левее, к бегущей вдоль самой опушки тропинке, которой смогут воспользоваться, чтобы спасти свои шкуры. А с ними летит стрелой и красавица гнедая, унося от меня мальчишку. Слишком поздно. Нам до них уже не добраться, к тому же это слишком опасно: прекрасно зная эти болота, они могут заманить нас в засаду. Внезапно от нашего отряда отделяется тот самый безумный купец-татарин, что называл черкесов бабами, и с криком бросается в погоню. Ему кричат: «Стой, вернись», – но он будто не слышит. Татарин скрывается в облаке пыли, поднятом черкесскими лошадьми. Тем хуже для него.
Мы с моими товарищами въезжаем в рощу. Здесь все уже кончено, и я, сняв бесполезный теперь шлем, сердито отбрасываю его в сторону. Под сенью деревьев, убитыми, раненными и пленными, осталось с четыре десятка черкесов. Одни еще яростно извиваются, когда их хотят стреножить, другие уже лежат на земле под прицелом луков и арбалетов, молчаливые и мрачные, связанные попарно, спиной друг к другу. Повсюду в беспорядке валяются убитые и раненые; большую часть последних, практически всех, даже в Тану не стоит везти: что их лечить, все равно совсем скоро умрут от гангрены. Надеюсь, останется хотя бы человек двадцать, по две головы на каждого участника нашего предприятия. А вот мальчишка и его красавица гнедая от меня ускользнули. И лошадей нет, все разбежались. Печальный итог, поскольку несколько наших тоже мертвы, в том числе двое из трех моих слуг. Хорошо еще, Тимуру, сидящему в лодке, ничто не грозит.
Я замираю, привлеченный странной позой одного из убитых черкесов: он так и остался стоять, обняв две березы и вцепившись руками в кору. На спине глубокая рана от меча, пробившего сердце: скорее всего, умер мгновенно. Судя по одежде, это их предводитель. Возможно, именно он обнимал мальчишку, но поклясться я не могу. Похоже, безоружен, хотя от такого удара острая шашка наверняка выпала из руки, и ее уже стащил какой-нибудь татарин. Странно умирать вот так, показав врагу спину. Он ведь даже не пытался бежать. Я обхожу его кругом и потрясенно останавливаюсь, увидев благородное лицо со светлыми волосами и бородой, в которых пробивается седина, глазами, по-прежнему широко распахнутыми в неведомую высь, которой мне не разглядеть. Я из милосердия закрываю их рукой. Тело оседает на землю, я пытаюсь удержать его, потом просто велю татарам, уже готовым отрубить головы и взять их с собой как трофеи, сложить тела вместе, забросав землей и камнями, чтобы не оставлять на растерзание шакалам и стервятникам. Татары подчиняются неохотно, да и то лишь тщательно обчистив трупы и забрав все, что можно использовать или продать.
Со стороны реки доносится крик. Мучимый дурным предчувствием, я скачу туда. Гребец одной из лодок держит на руках тринадцатилетнего мальчика: стрела попала ему прямо в сердце, но когда – никто не заметил. Во время беспорядочной перестрелки между лодками и берегом Тимур скорчился на корме, будто хотел спрятаться. Потом воины с мечами в руках бросились к берегу, и о нем все забыли. В лодке остался лишь один гребец; через какое-то время он потряс мальчика за плечо, но тот уже не дышал. Крича и плача, я беру его на руки, выношу на берег, взваливаю на лошадь и медленно бреду в сторону Таны, а верный Айрат, мой единственный оставшийся в живых слуга, следует за мной.
Вечер. Кто-то колотит в дверь.
Я сижу в углу, в темноте, не сводя глаз со стола, где лежит Тимур. Он кажется спящим. Вокруг отчаянно рыдают женщины, успевшие полюбить мальчика. Его уложили на стол, раздели донага, обмыли. Как прекрасно это юношеское тело, эта смуглая, будто светящаяся изнутри кожа! Если бы не крохотная дырочка на уровне сердца… Его отец в ханском стане, днях в пяти-шести от Таны. К нему уже послали гонца. До приезда Эдельмуга Тимур так и будет лежать обнаженным здесь, на столе. Очнувшись, я иду открывать и в тусклом, мерцающем свете фонаря узнаю Франческо, за ним еще кто-то: две или три смутные фигуры, скрытые тьмой.
Крепко обняв меня, Франческо сразу переходит к делу, поскольку между купцами, особенно в приграничье, вопросы доброй прибыли должно, не давая слабины, решать на месте. Пленники заперты в его складе на берегу. Никаких налогов, никаких посредников, венецианских или татарских: с лодок их выгружали, не заводя в город, а стража у ворот за приличную мзду просто закрыла на все глаза. Причитающуюся долю, двух рабов, я смогу выбрать когда захочу и вперед других, остальные партнеры отдают мне первенство. Один только капитан гриппарии просит сделать милость и поторопиться, корабль-то уже загружен и готов к отплытию; он смиренно просит не тратить слишком много времени на оплакивание, ведь тот, кто ушел, уже ушел, а живые должны заботиться о живых, и, кстати, тот мальчик, покойный, и христианином-то не был…
Я чувствую, что внутри все клокочет. Нет, хочется мне выкрикнуть, я не такой, как вы, я с юности слышал слова древних о роде людском и знаю, что одна смерть не важнее другой, какого бы племени, веры или звания ни был человек. А в этой проклятой Тане я с каждым днем все больше похожу на вас, и глаза мои уже масляно блестят, стоит только подумать о доброй прибыли и подсчетах барышей, которые можно получить с торговли людьми. Но сейчас, когда Тимур мертв и его тело простерто на обеденном столе, мне плевать на рабов и барыши. Пускай уходят: как вообще можно отнять у человека свободу, обращаться с ним будто с вещью, продавать и перепродавать? За что погибли Тимур и остальные? Хватит, хватит, хочется мне кричать; я едва сдерживаюсь, чтобы со всей силы не ударить Франческо.
И вдруг замираю. В сумраке зрачки мои успели расшириться, и мне кажется, что за спиной Франческо я узнаю физиономию другого мальчишки, того же роста, а может, и возраста, что и Тимур, с ног до головы перепачканного в грязи, которого тянут на веревке двое татар. Франческо бросает свою бесполезную болтовню: достаточно взглянуть мне в лицо, чтобы понять – дело не ладится. Он даже отказывается требовать два-три аспра в уплату за старый шлем, который я потерял, и, бормоча что-то себе под нос, отступает в сторону. Когда фонарь освещает мальчишку, я с трепетом узнаю юного черкеса, что пытался бежать на гнедой кобылке.
Бесславно возвращаясь вместе с товарищами в Тану, Франческо услышал в глубине топи, посреди зарослей тростника, тихие всхлипывания. Взяв слуг, он подъехал туда и обнаружил мальчишку стоящим на коленях возле едва живого коня с неестественно вывернутым копытом. Это явно был один из тех черкесов, что спасались бегством, но конь его, к несчастью, увяз в грязи и сломал ногу. Заметив преследователей, мальчишка, испустив яростный вопль, бросился на них с одним коротким кинжалом, однако поскользнулся и рухнул, так никого и не задев. Слугам Франческо, даже набросившись скопом, едва удалось его связать. По лицу мальчишки, покрытому коркой грязи, катились слезы, он пронзительно всхлипывал, повторяя одно-единственное непонятное слово – вагвэ. Гнедую кобылку, глядевшую ему вслед большими влажными глазами, милосердно прикончил сам Франческо.
Это лучший из пленников. Они с партнерами посчитали справедливым отдать его мне, вот и все, а потом… Потом, может… Довольно! Увидев мой окаменевший взгляд, Франческо отшатывается. Он сует мне веревку и вместе со слугами скрывается в сумраке. Я тяну ее на себя, и мои глаза встречаются с перепуганными глазами мальчишки. В свете фонаря они сияют синевой, словно безоблачное небо, какое, взобравшись зимним днем на колокольню в моем родном городе, видишь над дальними горами.
* * *
Будит меня солнечный луч.
Я лежу на полу, все тело ноет. Похоже, спал я долго и теперь понемногу восстанавливаю в памяти случившееся. На столе в центре комнаты тело Тимура, уже облепленное мухами. Нельзя ему там оставаться: кто знает, когда приедет его отец. Из-за колонны блестят глаза женщин, они смотрят на меня молча, испуганно, выжидающе. Потом я вспоминаю, что в доме есть кое-кто еще. Мальчишка-черкес. Я велел старой служанке запереть его в пустом курятнике. С нее станется ни рук ему не развязать, ни воды не дать. Я будто в тумане вижу полные страха и боли глаза под маской затвердевшей грязи. Он всего лишь мальчишка, как Тимур, покоящийся там, на столе, с миром, который уже никто не сможет потревожить.
Не поднимаясь, я зову своего верного Айрата: пусть приведет мальчишку из курятника и передаст двум женщинам, которые вымоют его, а после, переодев в чистую рубаху, дадут воды, хлеба и сыра. Айрату, конечно, придется посидеть с ними, присмотреть на всякий случай за этим маленьким дикарем. Потом, снова погрузившись в безмолвие, я сажусь на пол возле стола, на котором вечным сном спит Тимур.
Кто-то трясет меня за плечо. Это Айрат, взгляд у него смущенный. Я, поднявшись, иду за ним. Две женщины за дверью смущены не меньше. Одна держит в руках нечто напоминающее корсет и бормочет, будто бы по-венециански, но с жутким татарским акцентом: но се ун путело, но се ун путело. Это не мальчишка. Вхожу. В полутьме замечаю в углу его одежду и сапоги, по-прежнему покрытые коркой грязи; в центре комнаты, у лохани с водой, гибкое белое тело, опущенная голова в короне длинных светлых волос, скрещенные руки прикрывают лобковую поросль, талия сужается от бедер и снова расширяется к торсу, где вздымаются холмики маленьких крепких грудок. На пальце левой руки, похоже, кольцо. Пахнет чистой кожей, еще хранящей аромат воды и мыла после купания. Се уна путела. Это девушка.
Я молча замираю. Путела вскидывает голову. Глаза красные, но сухие: похоже, все слезы уже повыплаканы. Если не считать рук, прикрывающих гениталии, наготы своей она, кажется, нисколько не стыдится. Да и напуганной уже не выглядит. А меня вдруг охватывает смятение. Как же с ней общаться? С кем-либо из их народа я встречаюсь впервые. Пытаться что-либо объяснять бесполезно, она все равно не поймет, а я не пойму того, что скажет она, ведь каждому известно, что черкесы говорят на самом непонятном из всех языков мира, состоящем из взрывных и гортанных звуков, почти без гласных.
У кого просить помощи? В доме одни только татары, вряд ли кто-то из них может послужить мне переводчиком. Похоже, в Тане есть лишь один человек, знающий этот проклятый язык и при этом заслуживающий доверия. Я подзываю Айрата и отправляю его в лупанарий, велев как можно скорее привести ко мне хозяйку, черкешенку Маддалену: сиору Лену. Теперь главное – не проговориться, не сболтнуть никому, даже Лене, ничего лишнего. Обе женщины встревоженно молчат, хотя я сознаю, что долго это не продлится. Накинув на девушку простую льняную рубаху, я велю принести ей поесть и попить, но она, забившись в угол, ни к чему не прикасается, а я молча стою, прислонясь к дверному косяку, и ошалело гляжу на нее: глаза распахнуты, рот разинут, словно у соленой рыбы из моей тони.
Вернувшийся Айрат докладывает, что Лена ждет меня в зале. Иду туда, заперев за собой дверь. Потрясенная Лена, платком отмахивая мух, вглядывается в лицо мертвого мальчика. Одетая в темное платье, как бегинка, в черном чепце, прикрывающем волосы, она не похожа ни на черкешенку, ни на шлюху; немногие признаки роскоши – золотая цепочка с крестом в византийском стиле, чрезмерный запах лаванды да излишне броские кольца с искусственными камнями, память о былых возлюбленных.
Лена – женщина смелая, сильная, крупная, но уже увядшая, дочь одной из рабынь, захваченных во времена Тамерланова разорения, которую перекупщик-армянин много лет назад пристроил в публичный дом, когда его снова открыли. Хитрая, с маленькими лисьими глазками, ведь иначе женщине в этом волчьем логове не выжить. С помощью очередного любовника, нотариуса и одновременно священника, окрестившего ее весьма подходящим по случаю именем святой блудницы Магдалины, она поднакопила згей и перехватила у старого армянина лупанарий. Мне она должна быть обязана, поскольку год назад я дал работу в своей тоне маленькому ублюдку, которого Лена родила от венецианского моряка и которого больше не могла в рабочее время держать в публичном доме. Жизнь – странная штука, раз уж я прошу помощи у шлюхи; впрочем, будущее непредсказуемо, так сразу и не угадаешь, когда тебе понадобится помощь того, кому ты сам однажды помог.
Растерянный и взволнованный, я пытаюсь пересказать ей лихорадочную хронику последних двух дней, до появления путелы. Лена должна поговорить с ней, расспросить и попытаться выяснить, кто она и откуда, как ее зовут. На самом деле она могла бы даже ненадолго, всего на пару дней, остаться здесь, и я хорошо ей заплачу, если она научит путелу простейшим словам и фразам венецианского языка.
Лену это необычное предложение удивляет. За долгие годы в своей почтенной профессии она привыкла к самым странным и самым откровенным запросам, но роль драгоманки ей еще никто не предлагал. И потом, какой смысл говорить, слова тратить? На путелу достаточно взглянуть, осмотреть тело, нет ли в нем скрытых дефектов, прикинуть вес, понаблюдать за взглядом и движениями, в общем, оценить на предмет покупки или временного пользования.
Что толку в разговорах? Тана – не Венеция, где куртизанки, как она слышала от заезжего аристократа, читают стихи и рассуждают о философии. Здесь в нашем ремесле не до философий, за нас говорит тело, причем сотнями самых разных способов: запахами, прической, глазами, языком, руками, ногами, расчетливыми колыханиями живота. Клиенты же по непонятной причине, как правило, излишне болтливы, даже назойливы, они начинают пересказывать девочкам всю свою жизнь. Может, конечно, им только того и нужно, так что Лена обучила девочек, которые из этих разноязыких речей все равно ни слова не понимают, присаживаться рядышком на кровати и томно внимать, время от времени кивая и улыбаясь.
Но да, она готова ненадолго взять отпуск. Девочки справятся сами, тем более что в лупанарии ей и вправду лучше в ближайшие дни не появляться, поскольку там будет ад кромешный, ведь прибывает караван из Самарканда. Ах да, караван из Самарканда, я совсем забыл. Прошу ее сохранять все в строжайшем секрете. Лена, без сомнения, забавляется, воображая, что весь город, включая консула и священника, думают об этом угрюмом бабалуке Иосафате, который, оказывается, дни и ночи проводит, запершись в своем доме с ней, Леной. К тому же она знает, что у меня в погребе всегда есть запас хорошего кандийского вина.
Я велю проводить Лену к путеле, а сам остаюсь в одиночестве у стола, на котором по-прежнему лежит Тимур. Похоже, мухи становятся все многочисленнее и злее. Кожа темнеет, на животе проступают гнилостно-зеленые пятна, а между ног – полоса зловонной черной слизи, как будто тело разъедает изнутри. Поваро фиол, бедный мальчик. С ним тоже нужно что-то решать, по такой жаре и духоте я не могу позволить ему дожидаться Эдельмуга. Понадобится ящик с плотно пригнанной крышкой, гвозди и корабельный вар.
Но времени на раздумья не остается, потому что кто-то опять колотит в дверь. На улицах волнение, народ носится туда-сюда, со стены гремят трубы: караван из Самарканда наконец прибыл и потихоньку размещается в соседнем караван-сарае. А гонец уже кричит, что меня срочно ждут консул с Коцадахутом. Нужно идти, но мои смятенные мысли долго еще носятся между столом, где спит последним сном Тимур, и комнаткой, где я оставил путелу с сиорой.
* * *
Вернуться удается только к вечеру, без сил. Я почти двое суток не мылся и не снимал платья. Спал, наверное, всего пару часов, прикорнув на полу у стола с телом Тимура, и до сих пор морщусь от боли. Не считая кольчуги, одет я по-прежнему так же, как в ходе злополучного предприятия в роще, перепачкан потом, грязью и кровью и к тому же, кажется, обмочился. Даже сапоги у меня на ногах те же, надо бы их снять: не только для того, чтобы вычистить, но и потому, что внутри, похоже, пиявка. Консул, почуяв вонь, скривился, а этот татарин Коцадахут, прослышав о нашем славном предприятии, вдоволь похохотал надо мной и остальными, заявив с типично татарским юморком, который мне совсем не по нраву, мол, то-то будет зрелище, когда Эдельмуг, хорошо ему знакомый, увидит своего сына мертвым и, обезумев от горя, насадит головы Иосафата со всеми его сообщниками на пики, после чего снова расхохотался. На самаркандского купца, который сдержал слово и привез мне с гор между Персией и Индией сундучок чистейшего золота, я, видимо, тоже впечатления не произвел: о цене не торговался, приняв запрошенную, отчего купец едва не лишился дара речи. А у меня в голове мутно, все думаю о Тимуре и путеле и только хочу быстрее домой вернуться.
Войдя с сундучком под мышкой, я обнаруживаю, что Тимур по-прежнему на столе и вокруг по-прежнему вьется рой мух. Запах смерти, гниения, напоминающий мне вонь отбросов возле тони, только усилился. На полу грубо сколоченный деревянный ящик, как раз по размерам Тимура: его заказал мой верный Айрат, угадав еще не высказанную мысль. Я хвалю его, моего верного Айрата, и прошу снова позвать тех женщин, что сперва обмывали Тимура, а после путелу. Теперь им предстоит еще раз вычистить тело Тимура, смазать его бальзамами и эссенциями, завернуть в саван и уложить в сундук, который Айрат затем герметично закупорит. Сегодня уже слишком поздно, ворота закрыты и за стену не попадешь, но завтра его перенесут в мечеть и временно укроют в пустующем каменном саркофаге, чтобы отец мог совершить над ним подобающий погребальный обряд.
Сундучок с золотом я ставлю на лавку и молча, на цыпочках, подкрадываюсь к комнатке, куда поместил Лену и путелу. Из-за двери слышится голос, но только один, и принадлежит он сиоре. Любопытно было бы услышать и другой, но желание мое так и остается неудовлетворенным. Подождав немного, я решаю войти и сразу отсылаю Лену в кухню. Стою у двери, глядя на сидящую девушку, а она смотрит на меня, не отводя глаз, и в них словно бы немой упрек. В конце концов глаза приходится опустить мне, и тогда, совершенно раздосадованный, я выхожу из комнаты, заперев за собой дверь.
Лена, не дожидаясь моего прихода, уже наливает себе кубок вина, хватает руками тушеные куриные ножки и крылышки, оставленные хозяину в сковороде. Время от времени она обмакивает туда же ломоть черного хлеба, запивает вином. Я усаживаюсь напротив и жду отчета. Лена, которой хотелось бы сперва спокойно поесть, ворчит с набитым ртом, что дурно говорить во время еды, но я не свожу с нее настойчивого взгляда, и она, не прекращая обгладывать косточку, начинает рассказ. В большом камине, на докрасна раскаленных углях, медленно гаснут язычки пламени. Со стены, меж двух закопченных медных сковород, на нас с крохотной иконки взирает святая Екатерина, изображенная в виде царицы. Я, хоть и редко бываю в церкви, безгранично в нее верю и никогда не забываю поставить ей свечку.
Рукой в потеках жира Лена хватает греческий крест, висящий у нее на шее, подносит к моему лицу. Едва она вошла в комнатку, девушка бросилась на колени, бормоча слова, которых Лене разобрать не удалось. Иосафат должен понимать, что этим двоим, сиоре и путеле, не так-то просто найти общий язык. Франки зовут их всех черкесами, тем же словом пользуются татары и турки, однако в горах и долинах живет великое множество самых разных народов, возможно, связанных некогда общим происхождением, но не схожих нынче друг с другом ни обычаями, ни языком, ни именами: те, что поселились на южных берегах, – зихи, и она – тоже зиха, а есть еще кипчаки, татакозцы, собайцы, кавертейцы, кабардины, в общем, один дьявол разберет кто. Какие-то слова или части слов у них общие, но произношение может быть совершенно разным, и, только говоря медленно, они, да, обычно друг друга понимают. В общем, все это очень не просто, и мессер Иосафат должен вспомнить об этом, когда будет высчитывать вознаграждение сиоре.
А непросто было еще и потому, что поначалу девушка совершенно замкнулась. Преклонив колени перед крестом, она снова уселась в своем углу и уставилась в стену, отказываясь даже голову повернуть. Но ведь она христианка, крещеная? Да, но не совсем так, как это понимают франки и их священники, отвечает мне Лена. Девушка поклоняется кресту, как делала с детства, не зная ничего о Господе нашем и об обрядах Церкви, будь то греческой, латинской, русской или армянской. Не понимает даже, откуда у ее народа странный обычай развешивать на священных деревьях деревянные кресты и приносить в их честь жертвы. Да, детей у них обычно крестят, но походя, речной водой. Не имея ни священников, ни епископов, они не знают, что есть грех и что есть Ад, не знают ни таинств, ни десяти заповедей, однако молятся Всевышнему, почитают родителей и старших, хранят верность своему слову даже ценою жизни, уважают священные законы гостеприимства, а женщин считают равными мужчинам – иначе говоря, больше походят на христиан, нежели сами христиане. Удивительнее же всего то, что они не знают письменности, не умеют ни читать, ни писать, и нет у них ни единой священной книги, Евангелия или Библии. Хотя, по правде сказать, читать и писать Лена тоже не умеет, обращаясь с расчетами и письмами к старому армянину.
Я понемногу теряю терпение, поскольку сиора то и дело забалтывается, упуская нить разговора. Лекция о привычках и обычаях черкесов меня нисколько не занимает: может, в какой другой раз я бы и записал эти рассказы в свою книжку, но пока хотелось бы вернуться к девушке. Как ее зовут? Кто она? Лена кладет на тарелку обглоданное крылышко и снова протягивает мне перепачканную жиром руку, демонстрируя одно из своих колец: вот как! На пухлом пальце я вижу потертое колечко попроще других, может, оловянное, с монограммой, состоящей из греческих букв: A I K. Даже не сняв его и не прочтя надпись, я догадался, что оно значит, и вопросительно произнес по-гречески имя: Екатерини?
Да, именно Катерина. Лена сразу узнала кольцо на пальце, такое же, как у нее самой, – никчемный оловянный ободок, грошовая безделушка, которую ей вместо причитающихся денег всучил несколько лет назад случайный клиент, мошенник-египтянин, некий Гульбедин, пообещав, что вернется с целой горой золота и драгоценностей, а сам вскорости сгинул, ввязавшись в затею настолько нелепую, что Лена даже не помнит точно, в чем она заключалась: кажется, раскапывал в поисках сокровищ какую-то могилу. Гульбедин сказал ей, что кольцо это волшебное, поскольку получено оно от монаха в одном пустынном монастыре, где хранятся мощи святой Екатерины и где безделушку эту опускали в каменный ковчег, касаясь нетленного тела, чтобы вобрать в себя его сверхъестественную силу.
Честно говоря, Лена не больно-то поверила египтянину, на которого до сих пор сердилась из-за упущенной прибыли, а подарок сохранила лишь из суеверия. Однако именно это колечко, не считая, конечно, креста, помогло ей разговорить девушку. Поначалу Лена пробовала расспрашивать путелу на почти забытом древнем языке своего детства, который сама освежала лишь изредка, когда в лупанарий привозили очередную девочку-черкешенку, да и то лишь пока обучала новоприбывшую азам ремесла. Но безрезультатно: девушка все так же пялилась в стену, либо не понимая, либо делая вид, что не понимает. Наконец Лена, углядев своими лисьими глазками знакомые буквы, взяла ее руку и поднесла к своей, чтобы оба кольца, оловянное и серебряное, оказались рядом, а потом, словно вдруг прозрев, выдохнула единственное слово: «Катерина?» Только тогда девушка обернулась.
Катерина. Вот, значит, как ее зовут. Имя, которым она, скорее всего, была крещена еще в своем родном краю, кольцо, подаренное бог знает кем, каким-нибудь отчаявшимся пилигримом, заплутавшим в этих диких горах… Злая шутка судьбы, ведь Катерина, наряду с Марией и Маддаленой, одно из самых распространенных имен, которые дают рабыням странствующие монахи при крещении. Но кто она? Откуда? Какого дьявола вообще делала в той роще? Зачем переоделась мальчишкой? Мне сразу вспоминается прочитанная в детстве кантари: а вдруг она воительница, вроде амазонок? Или ее история больше напоминает сюжеты о прелестной Камилле или дочери «Восточной царицы», что путешествовали, переодевшись в мужское платье, и только в самом конце архангел Гавриил превращал их в настоящих мужчин, чтобы женить на королевской дочке?
Лена с трудом сдерживает мое нетерпение: от долгой болтовни в горле у нее совсем пересохло, и она не может закончить отчет, пока чего-нибудь не выпьет. Приходится налить ей еще кубок драгоценного кандийского вина. Вино же следует сдобрить подливой: Лена макает в одну сковороду ломоть черного хлеба, а из другой берет пахучую пикантную колбаску и продолжает рассказ, то и дело впиваясь в нее зубами.
Так вот, эта самая Катерина, говорит она, в некотором роде принцесса. И протягивает мне сверток, что принесла с собой из комнаты. Я разворачиваю его, растягиваю ткань во всю ширину и вижу изумительный плат златотканого шелка с гербом-лилией, весь в грязных пятнах. Лена заметила его в куче одежды, так и оставшейся лежать в углу вместе с корсетом и сапожками. Должно быть, девушка носила его, накинув на плечи, как персидскую шаль. Бесценная вещь, сотни аспров – и то мало. Такие только принцессам впору. Будь Катерина рабыней, могла бы за один этот плат себя с потрохами выкупить: но она, скорее всего, этого не знает, как не знает и участи, которая ее ожидает.
В конце концов Лене, предварительно умаслив, успокоив и со всем своим профессиональным мастерством подержав нашу дикарку за руку, все-таки удалось ее немного разговорить. Речь сиоры Катерина разбирает, хотя и принадлежит к иному племени, очень гордому и воинственному, что живет в неприступных горах Кавказа и зовется кабардинами. К тому же племени принадлежит и князь Инал, который велел изгнать татар из долины реки Копа и преследовал их до самого побережья и стен Таны. Когда словами, когда жестами, поскольку Лена с трудом понимает этот язык, еще более гортанный, нежели ее собственный, Катерина рассказала, что родом она с высокой заснеженной горы и что приходится дочерью благородному Якову, военачальнику Инала, сильнейшему человеку их народа и всего мира. Чтобы доказать свою храбрость, она отправилась сражаться вместе с ним, отчего и была переодета мужчиной, но, схваченная франками, отца более не видела. Теперь же, во имя Всевышнего и священной силы чудотворного перстня, она умоляет благородную даму креста освободить ее и позволить беспрепятственно вернуться в горы, к отцу.
Вот и все. Лена осушает очередной кубок. Благородная дама креста, то есть она сама, обещала передать смиренную просьбу Катерины благородному хозяину дома, который, будучи одним из самых знатных и могущественных франков в городе, несомненно ее выслушает. В этот момент мне почему-то кажется, что меня водят за нос. Следующие часы Лена посвятила тому, чтобы выучить Катерину хотя бы нескольким словам по-венециански, и та, похоже, преуспела, поскольку девушка она явно смышленая и любознательная. Начали с приветствий: добрый день и добрый вечер, и даже просто чао, привет, опустив, впрочем, истинный смысл этого слова, который священник-нотариус однажды, смеясь, раскрыл своей любовнице, ведь чао происходит от скьяво, раб, а раб, в свою очередь, от склавус, латинского названия славян, поскольку в былые времена все рабы и слуги в Венеции были славянами, а Лене кажется не слишком изящным начинать изучение языка со слова, которое станет участью бедной девушки до конца ее жизни.
Урок продолжился самыми необходимыми для выживания словами и фразами, объясненными также и на языке жестов: маньяр и бевер, есть и пить, пан и аква, хлеб и вода, хотя Лена призналась, что предпочла бы вино, ти и ми, ты и я, омо, мужчина, дона, женщина, иначе тетка, баба, сиора, как именовалась она сама, девочка или девушка-путела, как называли Катерину. Затем Лена перечислила части тела, вскользь касаясь девушки, совершенно обнаженной под своей рубахой, в тех точках, которые называла: голова, очи, глаза, бока, рот, тета, грудь, и бикиньол, сосок, чтобы вскармливать молоком путело, ребенка; панса, живот, где путело растет, и мона, которая нужна, когда ложишься в постель с омо, чтобы завести путело; но если приходится работать, путело лучше не заводить. Наконец, еще несколько слов для описания действий, которые сиора считала самыми важными в жизни: базар, карессар, чучар, монтар, кьявар – целовать, ласкать, сосать, забраться сверху, трахать. Катерина повторяла все подряд, не понимая смысла, но так старалась произносить слова правильно и с нужным ударением, что Лена расхохоталась, обнажив гнилые зубы и вызвав наконец у девушки гримасу, которая могла сойти за улыбку.
Должно быть, Лена хотела рассмешить и меня, да только это было невозможно. Ее рассказ открыл мне глаза: я понял, что видел его, отца Катерины, величайшего воина Якова, – того убитого, что повис на двух березах. Я заглянул в глубину его глаз, уже покинутых жизнью. Катерина, конечно, не знает, но отец ее теперь свободен, той самой бесконечной свободой, которой человек может достичь, лишь преодолев заслон времени. Я могу отпустить ее на все четыре стороны, но отца она больше никогда не увидит. Да, таково мое решение: отныне Катерина свободна, уже завтра я провожу ее до стены, посажу на лошадь и отпущу. Короткой простой молитвой, которая наконец приносит мне покой, я вверяю души девушки, ее отца и бедного Тимура, пускай он и не крещен, хотя что это меняет, святой Екатерине, которой безгранично предан.
Запустив руку в блюдо с засахаренным миндалем, Лена явно порывается продолжить, но не знает, как прервать мое мрачное молчание, чем привлечь мой отсутствующий взгляд. Она вовсе не пьяна и сохранила голову ясной, но, даже просто посмотрев ей в глаза, легко угадать, о чем она собирается просить. Словно открытая книга. А ведь сейчас начинается самое сложное: уболтать этого инсеменио, тупицу Иосафата, чтобы позволил ей забрать Катерину с собой. Касаясь девушки, Лена внимательно все рассмотрела, и теперь Иосафат во что бы то ни стало обязан отдать этот лакомый кусочек ей. Ничего подобного для своего заведения Лена до сих пор отыскать не смогла. Катерина будет ее принцессой, королевой Таны, пилигримы станут стекаться к ней отовсюду, и с Востока, и с Запада. Лена воспитает ее, полюбит как дочь, всему научит, осыплет золотом, а со временем, глядишь, и освободит. Что до Иосафата, цену она дает как на духу, по справедливости. Договор завтра же скрепит ее сердечный друг, священник-нотариус. В конце концов, Лена ведь была более чем честна, и плат златотканого шелка, что дороже самой Катерины, вернула без спора, хотя легко могла сунуть под юбку, и аминь. Лучше бы, конечно, девчонку за так отдать. В крайнем случае Лена готова предоставить ему возможность время от времени ею попользоваться. За небольшой процент, разумеется, наличными или натурой. А Иосафат взамен может прийти и возлечь с ней, когда пожелает. Без всякой платы.
Я читаю это в ее глазах, хотя ни единого слова из своей тщательно продуманной речи на смеси венецианского с черкесским Лена произнести не успевает. И вовсе не потому, что я ее перебиваю, просто тяжелая деревянная створка окна в кухне вдруг хлопает от мощного порыва ветра. Слышны испуганные крики: «Эль фого, эль фого, ут, ут! Пожар, пожар, скорее сюда!» Я вскакиваю, опрокинув стол, и Лена со всем своим засахаренным миндалем оказывается на полу. Позабыв про сиору, златотканый плат и прочее, я бегу к двери. Снаружи столпотворение, люди, обезумев, носятся кто куда. В воздухе стоит едкий запах гари, горящий пепел и раскаленные обломки, падая на соломенные крыши бедняцких хижин и конюшен, немедленно вспыхивают новыми, еще более высокими очагами пламени. Ночь озарена ослепительным сиянием внезапного пожара, который охватил уже всю нашу часть города.
Из обрывочных фраз собравшейся толпы я понимаю, что пожар начался от старого базара и караван-сарая, ставшего обиталищем мытаря Коцадахута и всей его свиты. Консул вопит, что татарина нужно во что бы то ни стало спасти, не то хан обвинит в его смерти нас и сровняет город с землей, а всех людей казнит. Площадь, склады и лавки, кажется, в безопасности, как и причалы со стоящими на якоре кораблями: обширные пустыри и древние руины не дают пожару распространиться. Но огонь, подгоняемый порывами сухого ветра с севера, по-прежнему угрожает старому кварталу у самых городских стен. Говорят, двери караван-сарая уже завалило, и оставшиеся внутри люди обречены сгореть заживо, поскольку инструментов, чтобы пробить стену, в царящем вокруг мраке и хаосе попросту не найти, а других выходов из здания никто не знает.
Из караван-сарая слышны отчаянные крики. Женщин и детей пытаются спускать со стены на веревках, но веревки рвутся, и несчастные падают на землю. В этот миг на меня нисходит озарение. Молясь святой Екатерине, я предложил ей освободить путелу, и в благодарность сама святая придет на помощь мне и моему городу. Однажды я сделал ее восьмым партнером того злополучного предприятия в Контеббе, но где теперь ржавеют кирки и лопаты, которые мы брали взаймы, да так и не вернули? На складе позади моего дома, я ведь был на раскопках кургана главным. Орудия, предназначенные для того, чтобы украсть сокровища из гробниц, потревожив сон мертвых, для святотатства, которое святая Екатерина в справедливости своей предотвратила, могут теперь обратиться в орудия спасения.
Я бросаюсь за ними, раздаю людям, потом хватаю лопату и сам остервенело принимаюсь за работу, непрерывно выкрикивая: «Святая Екатерина, святая Екатерина», – пока в стене не открывается пролом, через которой мы вытаскиваем более сорока человек, успевших надышаться дымом и уже почти задохнувшихся, в том числе насмерть перепуганного Коцадахута, такого жирного, что он застревает в дыре и его приходится вытягивать наружу силой, обдирая кожу.
* * *
К рассвету пожар потушен. Мой дом тоже удалось спасти. Назад я возвращаюсь измотанный, все в той же рубахе, штанах и сапогах, перепачканных двухдневной грязью. К палитре красок на моем лице добавились чернота сажи и алые, налитые кровью глаза, жуткие, как у великана Рончильоне из «Восточной царицы», если не хуже.
Дверь не заперта. Странно. Я кричу, но никто, даже верный Айрат, не отвечает. Ковыляю в сторону зала, где на столе до сих пор лежит недвижное тело Тимура, только мух стало еще больше. Но предназначенного для него деревянного ящика на полу я не вижу. Драгоценный шелковый плат и сундучок с золотом тоже исчезли. Сил у меня хватает только на то, чтобы дойти до комнатки, где была заперта пленница. Засов выломан, дверь нараспашку. Внутри никого, в углу – ни одежды, ни сапожек. Я открываю рот, чтобы закричать, но силы оставляют меня, я падаю, и в голове проносится последняя мысль: Катерина сбежала.
17
Терраферма («твердая земля», ит.) – материковые территории Венецианской республики, в описываемое время простирались на восток до Пулы (нынешняя Хорватия), а на запад почти до Милана.
18
Авогадором курии по делам иностранцев (лат.). Авогадор в Венецианской республике – член высшей судебно-административной коллегии, наблюдавшей за исполнением законов (впоследствии – адвокат).
19
Портуланы – морские карты, особенно подробно изображавшие береговую линию.
20
Пьомби (от ит. piombi, «cвинцовый») – тюрьма во Дворце дожей Венеции, крыша которой была покрыта свинцовыми пластинами.
21
Кантари – поэма в октавах, повествующая о подвигах паладинов.
22
Хрониками Иоанна де Вандавиллы Иосафат Барбаро называет книгу французского врача Жана де Бургоня «Приключения сэра Джона Мандевиля» (ок. 1357–1371).
23
Матрега – в X–XI вв. славянская Тмутаракань, ныне станица Тамань.
24
Тоня – участок реки или озера, специально оборудованный для ловли рыбы неводом.
25
Бозагаз («серое дерево», тат., также Возагаи) – ныне станица Багаевская.
26
Гриппария (гриппа) – одномачтовое торговое судно.