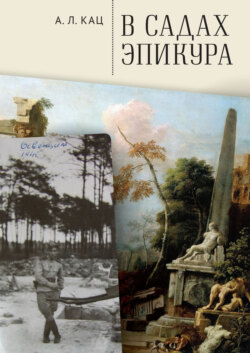Читать книгу В садах Эпикура - - Страница 4
Часть вторая. Тропы войны
ОглавлениеВторая часть моих записок охватывает время Великой Отечественной войны, в которой я участвовал практически от начала и до конца. Я не пишу ни истории, ни военных мемуаров. Потому я и не стану касаться того, чего не пережил или чего не видел сам. Писать я буду главным образом по памяти. Но есть у меня и некоторые материалы, подкрепляющие память. В июле 1944 года я начал писать полувоспоминания, полуповесть и довел изложение, кажется, до 1943 г. Сохранились и кое-какие дневниковые записи, несколько писем и, наконец, довольно многочисленные стихи.
Стихи я стал писать в детстве, а последнее стихотворение написал в 1953 г. Сохранилась, сшитая из тетрадных листков, записная книжечка, куда переписаны стихи 1937 и 1938 гг. Были и более ранние, но они пропали. Это очень плохие стихи. В них описаны мои любовные муки и школьные события. Плохи, конечно, и мои все остальные стихи. Тем не менее мне придется их приводить, т. к. они наиболее непосредственно выражают настроения той поры, когда писались. А их литературные достоинства или недостатки значения не имеют. Я никогда не предназначал их для читателей.
Стихи я стал писать под влиянием моего приятеля Володи Плетнера, смуглого, черноглазого и большеносого парня. Он писал уверенно и хорошо. Я с ним крепко дружил, бывал у него дома. Его мать – патриархальная еврейка – считала сына талантом. Конечно, она отдавала себе отчет в том, что Володя Плетнер это не Александр Пушкин, но знала она и другое: Пушкин это тоже не Плетнер. Потом Володя бросил писать стихи, переключился на сочинение музыки (он кое-как играл на фортепиано). Однажды он исполнил мне свой новый опус. Не будучи знатоком, я все-таки заметил, что опус живо напоминает широко известную часть «Лунной сонаты». Тут же находившаяся, мама сказала: «Ну и что же? Ведь все-таки это нужно уметь сыграть». Конечно, она была права и в этом. Володька Плетнер не стал ни поэтом, ни музыкантом. Его убили на войне.
23 июня 1941 г. я сдавал экзамен по античной истории А. Г. Бокщанину. Он начал слушать меня довольно скептически, т. к. помнил мои зимние попытки красочно охарактеризовать выдающуюся внешность Саргона Второго. Однако, чем дальше я продвигался в ответе (достался мне Александр Македонский), тем внимательнее прислушивался А. Г. Бокщанин. Полистал зачетку, покачал головой и поставил «отлично». Анатолий Георгиевич считался знатоком военной истории. Мы разговорились. С большой энергией он заговорил о начавшейся войне. На листке бумаги нарисовал схему основных ударов немецких войск. Общие выводы были более, чем оптимистическими. Мы расстались вполне довольные друг другом. Мне оставалось сдать 30 июня еще один экзамен – этнографию.
Между тем, Борис отправился на фронт. В это время он был снят с воинского учета, т. к. страдал какой-то тяжелой формой порока сердца. Однако он отправился в военкомат и получил назначение. Как я уже говорил, Борис заведывал кафедрой военной подготовки в одном из институтов. Помню, как он, вросший в привычную военную форму, с маленьким чемоданом в руках, шагал во главе колонны новобранцев, направлявшейся на Ленинградский вокзал. Я проводил его до эшелона, дождался отправления и пошел в библиотеку. Надо было готовить этнографию. Я ее сдал профессору Токареву. Получил «хорошо». Время было суетливое, и негры банту не полностью владели моими мыслями. А именно о них я должен был рассказывать на экзамене.
Было большое комсомольское собрание. Комсомольцы приняли решение считать себя мобилизованными. Ночами мы патрулировали по Москве. Но это продолжалось недолго. 1 июля был получен приказ: всем мужчинам студентам собраться в одной из московских школ для дальнейшего следования неизвестно, куда, неведомо, за чем. Жизнь в Москве пока еще мало изменилась. Работали кино, театры, в магазинах шла торговля без всяких ограничений. Мать собрала мне вещевой мешок, простилась и ушла на работу. Ни она, ни я не представляли масштабов катастрофы. До Манежной площади меня провожала Нина Манегина. Дальше я пошел один: не хотел слишком грустных проводов. А между тем я грустил. И причиной тому была белокурая Нина, о которой я сейчас намерен рассказать.
От Нины Манегиной сохранились: альбом с открытками. На первой странице надпись: «Дорогой, любимый. Вспомни наши тревоги в день поисков хлеба, и чем этот день кончился. Нина М. 17.X.41 г.». Этот день кончился ничем. Позднее я узнал, что Нина намеревалась меня поцеловать. Почему-то не поцеловала. Есть фотография, датированная 12 июня 1943 г. На ней написано: «Лешенька, если ты пронес меня через бури, то пронесешь и через цветущие долины». И это не осуществилось. Я просто не дошел до цветущих долин. Так вот: о Нине Манегиной.
Был веселый месяц март 1941 года. Я говорю веселый, потому что люблю этот месяц. В московских широтах с ним приходят первые лучи весеннего солнца. Начинают таять снега, шумно убегая ручьями. На лужах трещит тонкий ледок. Таким вот ярким мартовским утром я не шел, а летел к метро «Сокол». (Я опять опаздывал к началу лекции.) На спуске к речке Таракановке я ступил на накатанное какими-то злоумышленниками место и рухнул на мать сыру землю. Из очумения меня вывел милый девичий смех. Я встал, оглянулся и увидел хорошенькую девочку в коричневом пальто и в шляпке с полями. Падение я воспринял как знамение судьбы. Я подошел к девочке и спросил: «Почему ты смеешься?» Она ответила: «Ты здорово треснулся! И все-таки это смешно!» «А как тебя зовут?» – поинтересовался я. Жестокое красивенькое создание охотно отозвалось: «Нина». Потом выяснилось, что она учится в десятом классе, что живет вот здесь, в этом двухэтажном доме. Короче говоря, я многое выяснил, но опоздал на лекцию. Иногда наука требует жертв, иногда она сама становится жертвой. Потом наступил апрель. В чудесном лесу в Покровском-Стрешневе я ходил с Ниной Манегиной и очень ее любил. И я не скрыл этого от нее, а она как-то задумчиво сказала: «Не знаю, никогда, ничего подобного не испытывала, но мне кажется, что я тебя не люблю». Я, конечно, не ожидал такого ответа. Мне стало горько, но кое-что в делах любви я смыслил. Уверенно и совсем спокойно я сказал: «Я все-таки думаю, что ты меня любишь. Я уверен: очень скоро ты мне об этом скажешь сама». И она опять очень просто ответила: «Если захочу, скажу. Приду, чтобы сказать». И она пришла. Однажды, когда я поздно вечером вернулся из университета, Петька Бакалинский мне торжественно сообщил: «Была Нина!» А потом начались чудесные дни ребячьей любви, про которую написано немало хороших книг. К сказанному в теплой повести «До свидания, мальчики» я ничего не могу добавить. У меня все было так же. Сейчас есть великолепная песня Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Думаю, что поэт прощался с кем-то точно так, как я и миллионы других Ленек-королей. Между прочим, на голове моей тоже красовалась кепчонка, как корона. И натянул я ее по случаю крайней необходимости. Кто же из московских ребят, имевших приличную шевелюру, носил кепку в июле месяце.
Так вот, 1 июля я прощался с Ниной Манегиной на Манежной площади. Бессмысленно воспроизводить сказанные тогда слова. Помню, что она спросила, не боюсь ли я. Я действительно в тот момент ничего не боялся. И она сказала: «Я очень хочу, чтобы ты не боялся и помнил, что я тебя жду». И Нина ушла, и я двинулся к сборному пункту и на душе у меня было грустно и светло, и я курил «Казбек», потому что мать этого не видела и никто не мог запретить мне курить папиросы.
Ночь мы провели на асфальте перед одним из вокзалов на Комсомольской площади. Утром какой-то комсомольский вождь произнес перед нами короткую речь, из которой следовало, что именно мы и поставим на колени зарвавшегося агрессора. Потом нас погрузили в пропавшие карболкой теплушки и повезли. Поначалу все шло по киношному. Из числа студентов назначили командиров взводов, политруков и т. д. (Каждый курс теперь стал называться взводом.) Все старались быть очень бдительными, дежурили на нарах, под нарами и совершали вообще множество ненужных поступков. Нас обгоняли эшелоны с войсками. Мы махали руками, стройно и с большим подъемом пели «Вставай, страна огромная!» В Бахмаче я увидел первых беженцев, измученных женщин и детей. Все рассказывали о зверских бомбардировках дорог, по которым уходили в тыл мирные жители. Становилось не по себе. 3 июля 1941 г. выступил по радио Сталин. Мы поняли: стряслось страшное. И все-таки никто из нас не верил, будто началась сверхтяжелая, многолетняя война. Ведь мы знали, что войскам дан приказ уничтожить перешедшего границу врага. А разве кто-нибудь из студентов допускал мысль о невыполнимости приказа? Разве мы не веровали, что летаем выше всех, быстрее всех и дальше всех, что броня крепка и танки наши быстры, что если начнется война, то она будет проходить на территории противника? А ворошиловские залпы, а фильм «Если завтра война» и прочая галиматья?! Нет, мы не думали о затяжной войне. Может быть, это было плохо. Но может быть, и хорошо. Не знаю. Поражение не укладывалось в голове. Не потому ли в течение всей войны, при всех, казалось бы, нечеловеческих трудностях, страшнейших неудачах, я не встречал человека, допускавшего мысль о том, что немцы нас разобьют, не верившего, что все-таки мы где-то и как-то разобьем немцев. Я таких не знал, а находился в гуще событий и попадал в отчаянные положения.
Не помню, сколько мы ехали. Поезд остановился ночью, нас выгрузили. Мы отошли к какому-то лесочку, я положил под голову вещевой мешок и проспал до утра. Проснулся от жары. Черноволосый парень Сёмка Гутман крикнул: «Подымайсь!» И сразу все зашумели. Оказалось, что нет воды, негде умыться. Никто об этом не пожалел. Доели остатки пищи. По большей части это был черствый хлеб. Потом Сёмка Гутман разделся и стал ходить голым. Он объяснил это так: «При отсутствии женщин первобытное состояние – самое лучшее для человека». Почему-то все согласились с Сёмкой Гутманом и тоже разделись. В таком виде мы прослушали какого-то военного: по его словам, предстояло дней 20 потрудиться на земляных работах. К вечеру предстоял марш километров на 12 до места назначения.
Марш начался часа в четыре дня. Длинная колонна студентов двинулась в путь. Разумеется, 12 километров оказались никому не нужным трепом. Если бы не эти 12 километров, мы шли бы более разумно, сберегая силы, не устраивая каких-то бросков, которые временами задавали пятикурсники, не думали бы, что каждая деревня – это и есть место, куда мы идем и не испытывали бы подлинной муки, узнавая, что и эта деревня не та, которая нам нужна. А чего стоила болтовня о диверсантах, об отравленных колодцах и т. д. Мы по-настоящему играли в войну. Шли весь остаток дня и ночь. Томились от жажды. Переходили речушки, где-то переправлялись на пароме. Многие стали отставать. К рассвету добрались до деревни Снопоть (Смоленская область). Она и оказалась целью нашего марша. У колодца вдруг обнаружилось, что осталось совсем мало людей. «Где же остальные?» – спросил я, ни к кому не обращаясь. Дурашливый парень Корыткин махнул рукой и выдохнул: «Там… У околицы… Легли!» Получалось, что все они полегли смертью храбрых в штыковом броске. Оказалось, что они просто не дотащили ног до колодца. Я напился, лег на землю, мгновение чувствовал, как по сосудам бежит кровь, и тут же заснул, как убитый. Потом нас расселили по крестьянским хатам и началось участие в войне таких, как я, запасных второй категории, и белобилетников, способных держать в руках лопату. Студенты старших курсов вполне, конечно, годились к военной службе. Они не служили только потому, что к моменту Указа о призыве в армию выпускников десятилетки, были уже студентами.
Мы рыли противотанковые рвы: подлинно циклопические сооружения. Готовый ров, протянувшийся на несколько километров, казался столь грандиозным, что порой не верилось, как могли люди простыми лопатами выкопать его. Работали с перерывом на обед часов по 12–14. Иногда копали ночами, и это было особенно трудным. Кормили плохо. Наши хозяева, у которых мы селились, подкармливали нас. Платить было нечем, а потому все мы испытывали некоторое неудобство: мы ж были интеллигенцией. О трудном ходе войны мы узнавали не только из сводок. Днем над нами летали немецкие самолеты. Пару раз нас бомбили. Мы разбегались по команде «Воздух!», а когда бомбардировки заканчивались, снова начинали рыть землю. Бомбежки почему-то пугали не очень. Во-первых, группы самолетов были, как правило, небольшими, по 2, по 3, во-вторых, мы не несли, к счастью, потерь. Да и бомбы ложились далеко от рвов. Ночами видели полыхавшие вдалеке деревни. Удивляло, что пожары полыхали со всех сторон, т. е. они не обозначали линии фронта. Приезжавший на стройку, генерал говорил и о большом перевесе немцев в танках и самолетах, поговаривали, что кто-то, где-то попал в окружение. Однажды ночью нас оторвали от работ и зачитали приказ, в котором сообщалось о смертном приговоре группе крупных командиров Западного Фронта, во главе с генералом Павловым. Разумеется, все они обвинялись в предательстве. Как сейчас мне ясно, они не были предателями. Они терпели поражения и при этом осмеливались оставаться живыми. Таких, как известно, казнили и римляне, и якобинцы. Мы видели отступавшие войска. По проходам через рвы шли оборванные, усталые бойцы, многие были забинтованы запыленными бинтами. Тощие лошади тянули повозки, орудия, тут же шло гражданское население – беженцы. Мы воспринимали все это с большой грустью. Воспрянули было духом, узнав об образовании Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным. Не сомневались, что в военных действиях произойдет перелом. Но он, конечно, не наступил. Однажды в Снопоть прискакал верховой и сказал, что немецкие танки находятся в нескольких километрах. В деревне началось необычайное движение. Люди запрягали лошадей, выгоняли скот и устремлялись на восток. Нас погрузили на полуторки и повезли на новый рубеж. За вырытыми нами рвами развертывались какие-то воинские части. Мы слышали гул артиллерии, видели немецкий разведывательный самолет «Раму» и разрывы снарядов в той стороне деревни, где по дороге двигались отступающие войска и уходили с нехитрым скарбом беженцы.
Так мчались события. Менялись и студенты. Я был оборван, железно здоров и курил. Научился крутить длинные цигарки с крепчайшей махоркой. В первые три дня на земляных работах страшно болели все частички тела. Потом все прошло. Я, как и другие, превратился в заправского землекопа… Поскольку же я числился в запасе второй категории не по недостатку физических сил, то и махал отменно лопатой с трехметровой глубины, не испытывая ни одышки, ни сердцебиения. Чувствовал, как день ото дня наливались силой руки. Все было бы ничего, если бы приходили письма от матери и Нины. А писем-то почему-то не было… И я затосковал. Не столько по Нине, сколько по матери. Трудно передать, как хотелось вернуться домой. Я не мог скрыть этой тоски. Напрасно меня старался утешить пятикурсник Лева Менделевич (ныне дипломат в ООН), Миша Гефтер и Миша Рижский (оба теперь известные историки). Я тосковал. Моим ближайшим товарищем стал длинный парень Юра Баландин. Мы жили с ним вместе, он пел старые песни. Особенно хорошо получался у него романс «Как соловей о розе, поет в ночном саду». Студенты оставались студентами, да и я не все время хандрил. Несмотря на адский труд, много шутили, спорили, смеялись, соревновались в том, кто больше знает стихов, подтрунивали над начальником строительства каким-то Браславским, носившим винтовку стволом вниз, как охотничье ружье. Сочиняли песни. Ныне доцент исторического факультета МГУ, а тогда просто Ленька Папин сочинил два шедевра. Первый начинался так:
«Раскинулась трасса широко,
А солнце палит и палит,
Товарищ, мы роем глубоко,
Как нам приказал помполит».
Потом шла речь, как уставший землекоп в конце концов умер. Заключительный куплет пели особенно заунывно:
«Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут – она зарыдает.
В глубокой траншее, с улыбкою злой
Покойник суглинок бросает».
И была другая песня, прославлявшая пятый взвод, т. е. пятикурсников:
«Средь нас есть славный пятый взвод.
Вот, где работа без надрыва:
Треть взвода спит, треть взвода срет,
Треть взвода ждет до перерыва».
В целом жили дружно. Не помню каких-нибудь чрезвычайных происшествий. Никто ни разу не напился, никто не поссорился крупно, никто не подрался. Объясняется это не только накалом обстановки, но и, конечно, высоким уровнем интеллигентности у подавляющей части землекопов. Среди первокурсников был Павел Волобуев, ныне директор института истории СССР. Были, конечно, и психи ненормальные, придававшие значение откуда-то расползавшимся слухам. Но таких было мало, да и никто их серьезно и не воспринимал.
Обстановку на фронте мы знали плохо. Разумеется, мы читали газетные сводки, слушали радио. И, хотя информации явно не хватало, мы бурно обсуждали события, предрекали крутой перелом в событиях в ближайшее время. В какой-то момент обстановка ухудшилась. Потребовалось ускорить темп работы, а он и так был высок. До минимума довели обслуживающий персонал, а Миша Рижский произнес короткую речь. Он с пафосом сказал, показывая пальцем на недорытый ров: «Товарищи! Может быть, именно здесь фашистский зверь сломает себе шею!» К сожалению, Миша Рижский несколько преувеличил значение противотанковых сооружений, возводимых студентами-историками. В начале сентября нас очень воодушевило наступление Красной армии под Ельней. Мы видели тяжелые танки КВ, слышали мощный гул нашей артиллерии. Примерно в это время я получил целую кучу писем от матери и Нины. Не знаю уж, где они валялись. Одно из писем Нины начиналось строчками из нежного стихотворения поэта Случевского. Я многожды перечитал ее письма, возвел Случевского в ранг Классиков и соответственно увеличил производительность труда. Возобновились мои концерты из песен Вертинского, Лещенко, Тамары Церителли. Вообще мое исполнение этих вещей пользовалось большой популярностью. Лева Менделевич особенно ценил «Бразильский крейсер», «Ехали на тройке с бубенцами» и «Живет моя отрада в высоком терему». Между тем наступила осень и пошли дожди. Копать землю становилось все труднее. Много времени пропадало зря. Мы здорово пообносились, давно и основательно завшивели. Вши оказались сволочной штукой. Откуда они брались, никто не знал. Но они завелись, а мы, по интеллигентности, стеснялись сражаться с ними в открытую. Уединялись, сбрасывали штаны и рубашку, давили вшей и возвращались к работе, словно со свидания с любимой. В ночь на 27 сентября нас погрузили в эшелоны и повезли в Москву. Мы были полны воодушевления. Перед отъездом нам объявили благодарность, сказали, что враг остановлен, армия генерала Конева наступает. Мы, разумеется, и себя считали причастными к этим знаменательным событиям.
Сейчас не помню, сколько времени мы добирались до Москвы. Юра Баландин и я, грязные, измученные, живописные, словно беспризорники 20-х гг., спустились в мраморную роскошь метро. Пришли в восхищение от элегантного вида вполне мирных девушек. Мы приехали в Сокол. По дороге, несмотря на сравнительно поздний час, я забежал к Нине. Встретила она меня очень тепло, обняла за шею, но в это время вышел в прихожую ее отец, и я принял вид гордый и независимый. Папаша, настроенный мрачно, спросил меня о делах на фронте. Я бодро рассказал об успехах под Ельней. Манегин-отец принял меня за трепача, и мы расстались. Радостной была встреча с матерью. Здесь я узнал, что Борис возвратился в Москву. С сердцем было так плохо, что служить в армии он не мог. Снова приступил к заведыванию кафедрой в институте. Юра Баландин и я выспались, встали, сходили в баню. Я с изумлением увидел, что лесок на улице Левитана спилен. Оставлены высокие, метра на полтора, пни. Никак не возьму в толк, почему высокие пни считались препятствием для танков, а сами сосны – нет. Сокол пострадал от налетов немецкой авиации. Снесло дом Шатиловых. Там погибли все, кроме одной девочки: бомба попала в щель, где прятались люди. Погибла и моя учительница в младших классах Лидия Павловна Шатилова. В недавно выстроенный родильный дом, превращенный в госпиталь, тоже попала бомба. Но здесь быстро произвели ремонт и следов разрушения я не заметил.
В университете нас встретили, как героев. Лекции шли обычным порядком. Меня радостно встретила первокурсница-переросток и увлекла на верхние ряды амфитеатра аудитории. Старый профессор читал лекцию по педагогике, я на галерке предавался греху, отрабатывая практическую тему, которая, может быть, косвенно, но все-таки относилась к педагогике (хорошее обращение с женщинами тоже требует школы). Но нормальных занятий не было. Вскоре мы стали рыть противотанковые рвы в окрестностях Москвы. Теперь этим делом занималось множестве людей – мужчины, женщины, студенты, старшеклассники. Часто происходили воздушные налеты на Москву. Обычно это случалось в вечерние часы, звездными октябрьскими ночами. Никогда не видел более впечатляющего зрелища, чем Москва во время ночного налета. Вражеских самолетов не слышно и не видно. Зато со всех сторон яркие полосы прожекторов бороздят черное небо. Мощно гремят зенитные орудия. Если я оставался дома, то во время налета выходил на крытое крыльцо. Однажды налет застал меня в Сокольниках у Бориса, а он жил на пятом этаже. Все, кроме него и меня, а именно Леля, Юра, Таничка, моя мать, ушли в убежище. Мы остались в комнате. Было страшно, потому что дом трясло от грома зенитных пушек. Звенели стекла. Где-то близко рвались бомбы. Ничего. Мы с Борисом выдержали. Он казался вполне спокойным, сидел за столом, что-то писал. Другой раз воздушная тревога застала меня на площади Свердлова. Я спустился в метро и просидел в туннеле минут 45. Здесь было очень спокойно и совсем тихо. Никакие звуки налета сюда не доходили. После отбоя я вышел наверх и увидел разрушенный вестибюль Большого театра. Попала бомба. Другая – повредила один из университетских корпусов на Моховой. Снесло памятник Ломоносову. В первой половине октября началось новое наступление немцев на Москву. Обстановка очень осложнилась. Университет эвакуировался. Я остался в Москве. Все-таки надеялся, что призовут в конце концов и запас моей категории. Я не верил в возможность оставления нами Москвы. Но об этом чуть ниже.
Эвакуировалась с отцом Нина. По совести говоря, я очень горевал. Ей я рассказал, что чувствую себя вполне пригодным к военной службе, что очень обидно быть запасом второй категории, из-за того что в 30-х гг. арестовали моего ни в чем не повинного отца. В это время Нина относилась ко мне очень тепло. Нередко плакала от жалости к моим обидам и мне становилось легче. Однажды она ночевала у нас. Мать пошла к соседям. Объявили воздушную тревогу. Я вышел на улицу и смотрел с обычным в таких случаях возбуждением на ночной бой с невидимыми самолетами. По крыше застучали осколки зенитных снарядов. Потом все стихло. Я вернулся в комнату. Заметил, что Нина плачет, спросил, почему. Она обхватила мою голову и быстро зашептала: «Лешенька, миленький мой, хотела бы вот так заснуть с тобой и не просыпаться, не просыпаться». Девочка плакала все отчаяннее и повторяла: «Завтра тебя не будет, день, два, месяц, год, не знаю сколько, а вдруг тебя убьют». Я ответил: «Ну, этого быть не может!» И я утешал ее: «Не надо плакать, не надо бояться». И она успокоилась. Никто из людей, имевших счастье пережить такое, не забывает ни слов, ни чувств тех минут. Не забыл и я.
Перед эвакуацией Нина провела несколько дней в большом сером здании на площади Ногина. Я каждый день ходил туда и с трепетом думал, уехали или нет. Однажды я простился с ней. Дул ветер, гнал по земле желтые листья, моросил дождь. Я поцеловал Нину, и она ушла, а я думал ей вслед: «Уходит, уходит, уходит…» Она шла, оборачивалась, махала рукой, шла. А я все думал: «Уходит, уходит, уходит….» Она ушла, а я все стоял, по лицу бежали капли дождя. Ночью был воздушный налет на Москву. Утром я поехал на площадь Ногина. Окружавшие ее здания стояли с вырванными оконными рамами. В горком партии упала бомба большой мощности. Нина уехала до воздушной тревоги. В самом начале 1942 г. я получил от нее письмо. Вот что там сказано о дне эвакуации: «В этот день я покидала Москву, если б состав тогда остановился у “Серебряного бора”, как около всех прочих станций окружной дороги, я б сбежала тогда. Мне было тогда очень тяжело». И еще одно письмо, полученное мной на станции Ветлужской, где формировалась 111 Стрелковая бригада: «Лешенька, родной мой!.. Когда-то мы еще встретимся? Ты, по-моему, сильно уже изменился и физически и, пожалуй, духовно. Мне так кажется. А помнишь, ты хотел, чтобы я не стригла волосы, ну так я еще ни разу не бывала в парикмахерской, волосы до плеч, выражение лица слегка переменилось… Целую… Нинка». Наташенька, все это, наверное, сентиментально. Но в 1941 и 1942 гг. над нами висела непроглядная, грозная ночь, а мне было только 20 лет.
16–17 октября 1941 г. были особенно тяжелыми в дни битвы за Москву. В поселке Сокол можно было услышать гул артиллерии. Разумеется, я не знал на какой расстоянии от города идут бои. В это время стало широко известно имя генерала Г. К. Жукова, возглавившего Западный фронт. С огромным упорством строились оборонительные сооружения. В один из этих дней я шел пешком из Сокольников, где жил Борис, в Сокол. Было известно, что бои идут совсем близко от Москвы. Борис с семьей готовился к эвакуации в Ташкент. Мы тоже должны были ехать. Мать собрала кое-какие вещи и ждала меня. А я шел по городу и смотрел вокруг. Ничего необычного не заметил. Висел слух, будто где-то началась паника. Не знаю, как на вокзалах и восточных окраинах города, а в центре никакой паники не было. По улицам шли патрули, шагали хорошо обмундированные вооруженные автоматами отряды рабочих, много войск двигалось по Волоколамскому шоссе. На улице Горького я заметил толпу у Елисеевского магазина. Не знаю, что там делали люди: я не остановился. Повторяю, не заметил ни неразберихи, ни признаков особой тревоги. И главное: шли и шли войска к фронту.
Я решил зайти к Игорю Петрову, когда-то переросшему поселок Сокол. Теперь ему исполнилось 17 лет и он высоко поднимался над Камергерским переулком. Я поднялся по лестнице, постучал в дверь. Игорь открыл дверь, увидел меня и прошептал: «Тише! Она там!» Мы давно не видались, и потому я спросил: «Кто она?» «Моя жена!» – торжественно изрек высокий обитатель Камергерского переулка. «Ты женат?» «С точки зрения формальной – нет. Но ведь ты знаешь, это пустяки, все устроится в ближайшие дни». Я-то, конечно, знал, что формальности это пустяки, и потому никогда не стремился к их выполнению. Со всеми предосторожностями, чтобы не нарушить торжественную тишину, я прошел в комнату. В мягком полумраке торшерного света сидела девочка в шелковом платьице. Это была Лена – супруга Игоря Петрова. С ним мы поговорили о делах на фронте, решили, что Москва будет удержана. Бракосочетание Игоря Петрова было полным выражением этой уверенности. Я посидел у него немного и направился домой. Здесь меня в большом волнении ждала мать. Ведь нужно было ехать к Борису. Предстояла эвакуация. И тут я сказал матери, что абсолютно уверен в том, что Москву мы не оставим, что матери эвакуации не перенести, а умирать, в конце концов, все равно, где. Для меня было абсолютно ясно, что, если начнутся бои в Москве, то я любым способом заполучу винтовку. Я решил не эвакуироваться. Это было самое умное из когда-либо принятых мной решений. Во всяком случае, я спас мать, которой в то время было уже лет 65, и эвакуация ей была не под силу. И сам я вскоре оказался в армии. Но обо всем по порядку. А пока что ночь светилась всеми цветами от трассирующих пуль зенитных пулеметов, разрывов зенитных снарядов, белых полос прожекторов. Борис с семьей ночью уехал в Ташкент. Для него это решение оказалось роковым. Такому человеку, как он, было невозможно жить в среднеазиатской глуши. Активно он ничем не мог заняться: он был слишком больным. Поэтому Борис очень скоро добился разрешения вернуться в Москву. Сохранилось его письмо ко мне от 11 июня 1942 г.:
Дорогой Лёша!
Вот уже завтра будет неделя, как я вернулся в Москву. Живу вместе с мамой. Сейчас 10 часов вечера, только слушали сообщение по радио о заключении договора с Англией и США. Я пишу тебе. Начал свою литературную и историческую работу. На днях буду выступать по радио об отечественной войне 1812 года, и, кроме того, поеду в Бородино собирать материал о боях с фашистами. Кроме того, в скором времени приму военную кафедру в инженерно-экономическом институте Плеханова». Дальше он радуется тому, что на войне пригодились мои знания немецкого языка и добавляет: «Надеюсь, что недалеко то время, когда мы снова увидимся все опять, заживем счастливой жизнью. Служи хорошо, будь дисциплинированным командиром, выполняй все требования фронтовой работы». В сентябре того же года (3.9.42) я получил от него еще одну открытку. В ней, в частности, написано: «Я сейчас работаю начальником военной кафедры в институте Плеханова. Много пишу в “Огонек” и “Красноармеец”. Мой литературный псевдоним – Соколов». (Не знаю, зачем понадобился этот псевдоним. Ведь в те времена еще не додумались до борьбы с космополитизмом.) Борис не дожил до счастья. Весной 1943 г. он умер от сердечной декомпенсации. В это время я жил в лесу в районе деревни Лиски, западнее Белгорода, на Курской дуге.
Не помню, 16 или 17 октября в дом ворвался Петька Закалинский. Он был в шинели, в ботинках с обмотками, шапке-ушанке, на плече болталась винтовка. Мы обнялись, похлопали друг друга по спинам, обменялись междометиями. Наконец я спросил: «Петька! Откуда ты?!» Он выдохнул: «Из-под Бородина!» С этими словами он швырнул винтовку под кровать. В комнате сидела его нянька Ганна и ее подруга Фекла Филипповна из соседнего дома. Эта самая Фекла Филипповна спросила Петьку, где немцы. Герой Бородина, желая ее напугать, объявил, что немецкие танки за железнодорожным мостом. Фекла Филипповна кинулась домой строить баррикады перед калиткой.
Потом мы с Петькой пошли по поселку. Он рассказал об участии в бою, о том, что стрелял по немцам, что часть его как-то рассеялась, и он действительно шел через Бородинское поле, а теперь дня через два отправится в военкомат, чтобы воевать дальше. Тут же сообщил о лихом солдатском донжуанстве. Достоверность его ратных подвигов я проверить не мог. Но рассказы о женских ласках мне показались явно нереалистическими. В этом-то я смыслил. Однако спорить не стал. Я очень страдал от отсутствия курева. Временами обращался к солдатам, и они ссужали меня щепоткой махры. Мимо Сокола проходили воинские эшелоны. Бойцы выпрыгивали на станции, меняли махорку на белый хлеб. (Он выдавался по карточкам в достаточном для меня и матери количестве.) Находчивый Петька зашел в школу, где теперь располагался какой-то воинский пункт, с кем-то переговорил и вынес мне пару пачек махорки. Я был ему очень благодарен.
Через два дня Петька уезжал. Вместе с ним отправлялся на призывной пункт мой закадычный друг Женя Вольф. Это был последний из членов общества любителей бани (кроме меня), который отправлялся в армию. Он окончил десятилетку, ему было 18 лет. Военное лето он провел на строительных работах, теперь шел воевать. О большой и незабываемой дружбе с Женькой Вольфом я намерен теперь рассказать.
У меня сохранились фотографии Женьки Вольфа и его подарок – два тома «Истории философии». Женька украл их из заброшенного комода старухи соседки, совершенно правильно считая, что она отфилософствовалась, а я, будущий историк, только начинаю философствовать. Поэтому на первом томе он строго предписал: «Познавай науку», на втором сэпикурействовал: «Вспоминай дружка по заложену, выпивонному и прочим делам». В обоих случаях суровая подпись: «Е. Вольф».
Женька Вольф (отец его поляк, отсюда и фамилия) был рослым красивым парнем. Сдружились мы с ним на почве нежных чувств к двум подругам. Он увлекался хорошенькой девочкой Таней Харсам, я – тоже хорошенькой Олей Назаровой (моя дружба с ней продолжалась в 1938–39 гг.). Обычно мы встречались в очень интеллигентном доме Харсам. Отец и мать Харсам смотрели на наши взаимоотношения доброжелательно, обращались с нами на равных, т. е. не позволяли себе ни иронии, ни подозрительности по поводу нашей дружбы. Моя мать, родители Вольфа – все нам покровительствовали. Разумеется, мы все время проводили вместе, т. е. бывали в театре, в кино, фотографировали, и, конечно, любили, как это положено у старшеклассников. Понятно, что между мной и Женькой существовало полное доверие и взаимопонимание. Мы встречались ежедневно, иногда у него на квартире устраивали выпивоны, про которые я писал. Квартира эта была достаточно просторной и свободной (родители находились на работе). Летом 1939 года семейство Харсам уехало отдыхать на юг. Взяли с собой Женьку, дабы Таня и он отдыхали, а не худели от тоски друг без друга. Вот здесь-то и совершилось грехопадение. Южные ночи оказали свое чарующее воздействие на Таню и Женьку, и произошло то, чего не могло не произойти. Тогда Женьку выслали на место его постоянного жительства. Хорошо все-таки, что местом ссылки оказалась Москва. Женька приехал в изгнание гордый, мужественный и грустный. Я, конечно, тут же был посвящен в случившееся, и, как и следовало ожидать, полностью одобрил Женькины начинания, возмутился родительским деспотизмом и утешил Женьку Вольфа. Мысль моя работала, примерно, в таком направлении: вечно Харсамы на юге не будут, они приедут. И то, что Женька начал под покровом южной ночи, он продолжит на более прочной основе, под которой я подразумевал широкий Женькин диван. Все произошло, как я и предвидел. Оторвать Таню от Женьки оказалось совершенно невозможно: они любили друг друга. Это было так, и, если бы даже все благоразумное, умудренное опытом человечество выдвинуло тысячи аргументов против разумности их отношений – все эти аргументы разбились бы об один: они любили друг друга. Конечно, не обходилось у них без размолвок. В одну из таких я привел к Женьке черноглазую красавицу Веру Зиновьеву. Они погуляли по парку в Покровском-Стрешневе, встретились еще раз, а потом Женька мне сказал: «Не могу!» И пошел мириться к Тане. Между тем мои отношения с Олей Назаровой как-то нарушились. Грустил я не очень, а дружба с Женькой становилась все крепче и крепче. К нам подключился и мой брат Кирюшка. Не было прочитанной книги, которую бы мы не обсудили, не было секрета, которым бы не поделились.
Теперь Женька уходил воевать. Ноябрь был дождливым месяцем. Петька, Женька и я (Таня была в эвакуации) шли под дождем к трамвайной остановке Сокол. Женька нес на плечах жиденький вещевой мешок, на Петьке нелепо болталась его винтовка. Мы шли и молчали, потому что говорить было не о чем. Подошли к остановке. Высокий Женька ссутулился, посмотрел на меня, положил руки мне на плечи и тихо сказал: «Таню жалко, ох, как Таню жалко». Женька плакал, и слезы, большие слезы бежали по щекам. Потом подъехал трамвай, Женька, ссутулясь, влез в него, на подножке повис Петька Закалинский. И они уехали, и больше я их не увидел: Петька Закалинский и Женька Вольф погибли на войне. Кончался ноябрь. Мои товарищи находились на фронте. Один я оставался в запасе второй очереди и работал дворником в домоуправлении поселка Сокол. А под Москвой шли бои, временами слышался отдаленный гул артиллерии.
Работа дворником была для меня вполне подходящей: образование в один курс университета, хотя и оставалось незаконченным высшим, в данном случае оказалось достаточным. Что касается политического доверия, то я заслужил его у домоуправа Плешкова и участкового милиционера Изотова. Я получил в банке 1500 рублей и привез всю сумму по месту назначения, не пропив и не украв. Плешков довольно улыбнулся, Изотов дал закурить. Рабочая продовольственная карточка, 99 рублей зарплаты и пролетарское положение – все это что-нибудь да значило. Со своим напарником я чистил печные трубы, колол и пилил дрова, успешно конкурируя в этом деле с фирмой возчика Блошкевич и К°, строил сараи, разгребал заснеженные дорожки на своем участке улиц. Мы были одиноки – мать и я, Борис находился в Ташкенте, Кирюшка, как мы полагали, служил в армии. (О судьбе Кирюшки я узнал от матери после войны. Он, как позднее выяснилось, действительно был призван в армию. Не знаю, что уж там произошло, но его почему-то арестовали, судили, приговорили к 10 годам ссылки. Из нее Кирюшка не вернулся.)
Вечерами я уходил к нашим соседям Байрошевским, сидел со старым Степаном Александровичем. Мы обсуждали сводки, выступления Сталина, курили табачную пыль. Старик и я – девятнадцатилетний здоровый парень, запас второй категории. Степан Александрович уверял, что нам нужна НЭП, я не соглашался. Он говорил о затяжной войне, я ссылался на выступление Сталина и отводил ей «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». Какая же это была тоска, какая обида. Я становился суеверным. Вечерами мать раскладывала карты и пыталась прочесть по ним смутное будущее. Иногда я дежурил в домоуправлении. Вот там однажды, сидя декабрьской ночью и потягивая цигарку из махры, полученной в дар от Изотова, я услышал экстренное сообщение по радио «В последний час». В нем говорилось о разгроме немецких войск на подступах к Москве и о переходе наших армий в успешное контрнаступление. Вскоре меня призвали в армию. «Дело дошло до триариев», – как говорили римляне.