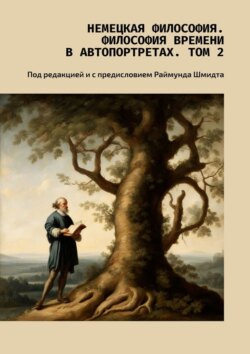Читать книгу Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 2. Под редакцией и с предисловием Раймунда Шмидта - Валерий Алексеевич Карданов, Дарья Андреевна Самсонова, Наталья Сергеевна Кузьмина - Страница 4
Клеменс Баумкер
ОглавлениеI.
Я родился в Падерборне в Вестфалии 16 сентября 1853 года, и мне посчастливилось найти в доме моих родителей множество стимулов для спокойных размышлений и вдумчивой деятельности, объединенных с серьезным религиозным чувством. Я никогда не забуду, как мы, дети, слушали нашу мать, когда она читала длинные отрывки из старого копенгагенского издания первых десяти песен «Мессии» Клопштока 1755 года – еще маленькой девочкой она получила это красивое квартето для верного чтения вслух от своего старого, почти слепого друга, Но именно ее отец, который много лет преподавал историю в местной гимназии, а также издал несколько небольших исторических трудов, пробудил в ней чувство истории. Но он также направил меня к поэзии, поскольку сам был одарен некоторыми поэтическими талантами и неоднократно использовал их; так же как и книга из его библиотеки, «Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands» Эйхендорфа, особенно с ее росистым описанием романтизма, стала моей любимой книгой в поздние годы учебы в гимназии и оказала решающее влияние на весь мой образ мыслей и чувств. С 1863 года я учился в гимназии в моем родном городе, бывшей иезуитской школе с теми же традициями, где с давних времен сохранялось уважение к гуманизму, но не преуменьшалось значение математических наук и логической подготовки. Для меня было очень важно, что среди моих учителей было несколько человек, которые умели пробудить желание и любовь к свободной деятельности помимо школьной подготовки. Это стимулирование распространялось не только на античную и патриотическую литературу, но и на математические и естественно-научные предметы, где я постоянно мог помогать своему учителю математики, необычайно способному физику, следившему за ходом исследований, в его работе по спектральному анализу, для которой он использовал все ресурсы своего физического кабинета, и где интеллектуальный филолог Фр. В. Гримме, который также был увлеченным ботаником, привил мне любовь к scientia amabilis, что выразилось во многих экскурсиях. В то время я сильно колебался между историко-литературным интересом, который был особенно сосредоточен на греческих авторах, и математико-научным интересом; и когда позже, найдя особенно ревностно возделываемое поле для работы в изучении средневековой философской интеллектуальной жизни, я предпочел исследовать связи между платоническим течением в схоластике в частности и математическим и медико-ориентированным естествознанием, я вижу в этом последействие впечатлений моей юности, которые продолжали прорываться наружу. Кстати, несмотря на идиллическую уединенность моего родного города, который все еще был преимущественно аграрным и мелкобуржуазным, социальные проблемы, волновавшие меня в то время, попали в поле моего зрения и в более поздние годы учебы в гимназии, но не получили дальнейшего развития, особенно в общении со старшим другом детства и товарищем по учебе, известным впоследствии христианским социальным политиком Францем Хитце. Меня также очень интересовала, по крайней мере теоретически, церковная музыка, особенно периода Палестины.
После успешной сдачи выпускных экзаменов осенью 1872 года я начал изучать теологию, чему особенно способствовали гонения, вызванные тогдашним «Культуркампфом», и мужественный энтузиазм в отношении веры, порожденный в католической части населения в качестве противодействующего эффекта. В философско-богословской академии в моем родном городе, «Теодориануме», я начал свое подготовительное обучение, особенно в области философии. Я изучал Ветхий Завет и историю церкви, а также готику и ориенталистику с лингвистом Освальдом, но прежде всего философию, которая сразу же полностью захватила меня. Моим главным учителем в этой области был Джозеф Вигенер, знающий ученый с широким кругом интересов и великолепным владением пленительным словом, который просто не умел сдерживать себя и концентрироваться и поэтому, несмотря на весь свой интеллект, так и не смог создать много литературы. В строго томистском смысле он дал очень подробное учение о знании и метафизике – как я позже обнаружил, с сильной ссылкой на большой курс Иоганна а Санкто Фома, крупное произведение посттридентской схоластики, – при этом он, по общему признанию, прошел над головами большинства из них, к их большому неудовольствию. Они предпочли прислушаться ко второму лектору, Бакхаусу, который предложил совершенно неполную выдержку из сборника Тонгиорги. Но лучше всего было то, что предложение Вигенера привело меня непосредственно к источникам. В течение этих двух семестров я с большим усердием изучал под его руководством Фому Аквинского и Аристотеля; также кое-что из Бонавентуры, чей Itinerarium mentis in Deum он открыл для меньшего круга на вечернем кружке, а также немного Мейстера Экхарда и других немецких мистиков, к которым «Geistliches Leben» Денифа Леза, который в то время только что был опубликован, дал прекрасное введение со ссылками на источники. В философском плане на меня также произвел неизгладимое впечатление ученый религиозный деятель, который много лет был другом моей семьи, о. Игнатий Йейлер, лектор францисканского монастыря в Падерборне, который отвечал за завершение образцового издания Бонавентуры, подготовленного о. Феделе да Фанном, и который, в манере старшей францисканской школы, сочетал томистское аристотелианство с сильной склонностью к платоновско-августиновской мысли. Что же касается более новой философии, то в моем распоряжении в то время был только купленный на аукционе исторический конспект кантианца Теннемана, из которого я с неменьшим рвением почерпнул хотя бы элементарные знания о внешнем виде доктрин, хотя, естественно, без более глубокого понимания.
Осенью 1873 года – философско-теологическая школа в Падерборне была закрыта вскоре после этого в результате «Культуркампфа» – я перешел в Мюнстерский университет, который в то время был еще академией с двумя факультетами, чтобы начать свое настоящее богословское образование, не без тихой надежды стать лектором где-нибудь в области спекулятивной мысли. Из преподавателей теологии, однако, только один оставил на меня глубокое впечатление, способный историк догматики Шване, который, кстати, в основном читал о морали. Все мои интересы по-прежнему были сосредоточены на философии, и хотя мои учителя мало поощряли меня – у меня остались воспоминания только об ученике Прантля Гидеоне Шпикере, который позже был отправлен в Мюнстер, поскольку я не переставал спорить с ним на беседах и экзаменах, – я с еще большим рвением стремился продолжить свое образование путем самообразования. Среди философов больше всего мне помог почтенный слепой Кристоф Бернхард Шлютер, к которому я обратился лично как к читателю. Друг и советчик вестфальской поэтессы Аннет фон Дросте-Хюльсхофф в ее молодые годы, он был также наследником литературных традиций Мюнстера времен принцессы фон Галлицин, подруги Гаманна. Он был знаком с Платоном и Плотином, Августином и Скотом Эриугеной, которого он, яростно отвергавший Спинозу, пытался лишить пантеистического характера, а философия веры Якоби и теософия Баадера, столь важная для последнего периода жизни Шеллинга, по-прежнему находили в нем живой отклик. Таким образом, я узнал эти настроения через него, но без того, чтобы они глубже завладели мной. С другой стороны, Шлютер, знавший наизусть Гомера и Софокла, Пиндара и Горация и силой своей памяти переводивший на связанную речь римских, английских и многих неолатинских поэтов, давал мне более сильные стимулы в литературном и эстетическом отношении. В частности, его близкое знакомство с эстетическими достижениями гуманистического периода пробудило во мне устойчивый интерес к гуманизму, который впоследствии усилил романист Густав Кёртинг. С научными трудами Аристотеля меня познакомил зоолог и врач Карш, который также преподавал мне физиологию нервной системы и органов чувств, для которой, разумеется, были доступны лишь весьма несовершенные средства демонстрации. Под руководством Бикеля продолжалось изучение восточных языков, особенно сирийского.
Поэтому в вопросах философии мне приходилось полагаться в основном на книги и на себя. Систематически прорабатывались аристотелевские труды, продолжалось изучение святого Фомы, тщательно вычитывалась подробная Summa philosophica строгого томиста Philippus a Ss. Trinitate, которая также давала полный обзор особых мнений в схоластике по каждому пункту доктрины, была тщательно вычитана и сравнена с более свободными метафизическими диспутами Суареса; также были рассмотрены Платон и Плотин, а также Николай Куза. С другой стороны, о более поздней философии я узнал из лучших источников, чем маленький Теннеманн, прежде всего из обширной «Полной истории» Риттера, которую я купил на аукционе; я также усердно читал Канта, а также Рейнхольда, Эшенмайера и других современных философов, которые попадались под руку, но, поскольку мне не хватало компетентного руководства, я мог лишь несовершенно ориентироваться в ней. Возникла также потребность в συμιφιλοσοφειν и дальнейшем образовании. В кругу сокурсников обсуждались метафизические вопросы и объяснялся «Opusculum de ente et essentia», который является основополагающим для томистской метафизики. Длительная переписка с тогдашним городским капелланом, а позже профессором Уфусом из Галле, которого эпистемологические объяснения Э. фон Гартмана поколебали в его прежних взглядах, побудила меня сформулировать свою позицию по проблеме, которая всегда оставалась для меня фундаментальной. С помощью схоластического различения между species intelligibilis как – говоря теперь более понятными терминами – психологическим содержанием сознания, verbum mentis как объективным содержанием суждения, имманентным сознанию, и res как «подразумеваемым» трансцендентным фактом я пытался прояснить для себя эти трудности, в отношении которых, как и многие из моего поколения, концепция действительности Лотце и его теория факта дали мне впоследствии новые импульсы. Уже тогда, в противовес наивному реализму многих представителей старой школы и феноменалистическим взглядам, которые были широко распространены в мои ранние годы, я пришел к направлениям мысли, которым позже дал эпистемологическую интерпретацию его психологии мышления, а также нашел по крайней мере некоторые точки соприкосновения в подходе «Логических исследований» Гуссерля, который, конечно, существенно отличался от него. В медленной, по-разному обусловленной форме они развились в ту форму критического реализма, которую я представляю.
В 1875 году я намеревался переехать из Мюнстера в Вюрцбург, чтобы получить докторскую степень по философии и подготовиться к хабилитации. Однако смерть отца и необходимость ухаживать за любимой матерью помешали этому намерению и заставили меня отказаться от планов академической карьеры, по крайней мере на время. Первоочередной задачей было как можно скорее найти работу. Я не чувствовал потребности в практической пасторской карьере и не готовился к ней во время учебы. Поэтому профессия школьного учителя моего отца казалась наиболее очевидным выбором, тем более что я уже успел тесно познакомиться с филологией благодаря интенсивному изучению греческой философии и надеялся, что в будущем смогу соединить свой философский энтузиазм с такой профессией. Я пробыл в Мюнстере еще четыре семестра, занимаясь в основном классической филологией и изучением немецкого языка. Моим главным учителем в это время был грецист Й. М. Шталь, который, помимо лекций и семинарских занятий, всячески поощрял меня личными наставлениями, а также вдохновлял на историческое изучение греческой философии. Я также занимался с латинистом П. Лангеном, поэтическим германистом Й. Шторком, историком Т. Линднером и философом Гидеоном Спикером. Филологические занятия дали мне новый импульс для систематической работы над сочинениями Платона. Я также настойчиво стремился разгадать глубокий смысл «Критики чистого разума» Канта, хотя и не мог согласиться с моим учителем Шпикером, который испарял «вещь в себе», но понимал учение Канта в то время и еще долгое время в смысле, более близком к Фризу. Кроме того, теория внутреннего опыта, как ее отстаивал Überweg в своей «Логике», и то, как он хотел разрушить стены, воздвигнутые Кантом, послужили многим стимулом.
Однако сначала эти философские исследования должны были завершиться получением докторской степени, чтобы достичь внешней цели. Долгое время я был занят диссертацией о вызывавшем много споров учении Аристотеля о нусе, в которой предполагалось развить идеи Аристотеля в критической дискуссии, в частности, с Францем Брентано, и проследить их дальнейшее развитие в средневековой философии. Однако для завершения этой обширной темы, для которой я уже многое собрал и подготовил, потребовалось бы еще больше времени, чем я мог выделить. Поэтому был закончен и представлен отрывок из подготовительной работы – «Учение Аристотеля о внешних и внутренних чувственных способностях», с которым в начале 1877 года я получил докторскую степень. Работа получила определенное признание критиков. Зюземиль и Вальтер высоко оценили ее, а рецензия Нойхойзера в Бонне – впоследствии я стал его преемником – даже выросла в целую книгу: «Aristoteles Lehre von den sinnlichen Erkenntnisvermögen und dessen Organen» (1878), против основного тезиса которой, как ни странно, ученик Нойхойзера и Юргена Бона Мейера, Дембовский, снова представил мою защиту в боннской диссертации. В конце 1877 года я также сдал филологический государственный экзамен и в начале 1878 года начал преподавать в Паулинишеской гимназии в Мюнстере.
С диссертацией об Аристотеле я вступил на путь, к которому меня подталкивали время и склонность, – к строго историко-критическому исследованию исторического развития философии, основанному на точных методах. «Философия греков» Целлера казалась мне блестящим образцом для этого. Помимо небольших текстово-критических материалов по Аристотелю, которые я написал еще студентом и опубликовал в «Zeitschrift für österreichische Gymnasien», продолжая дух Боница, я опубликовал в «Rheinij sehen Museum» эссе о софисте Поликсене, на которое меня натолкнули платоновские исследования. От Александра Афродисийского мне удалось доказать в юном магийском диалектике, о котором историки философии ничего не сообщают, родоначальника аргумента τριτος ανδρωπος, который Аристотель проводит против учения об идеях, но который появляется уже в платоновском «Пармениде». Если в то время последнее обстоятельство обычно рассматривалось как решающее доказательство неподлинности «Парменида», то теперь это доказательство стало недействительным. Таким образом, это открытие стало хотя бы небольшим звеном в начавшемся в то время движении против гиперкритики трудов Платона, которое достигло апогея благодаря Убервегу и Шааршмидту. Моя литературная деятельность также была сосредоточена на эпохе Возрождения. Появилось несколько эссе по истории мюнстерского гуманизма; по предложению Кёртинга, отчасти вопреки ему, были каталогизированы античные и патриотические источники для антикварного сочинения Петрарке.
II.
В течение этих пяти лет моей работы в гимназии я испытывал большое внутреннее удовлетворение от преподавания, особенно греческого и немецкого языков, и прежде всего философской пропедевтики, которая в то время еще была связана с немецким языком в высшем классе и для которой я составил небольшой конспект; тем не менее я был глубоко тронут, когда в конце 1882 года неожиданно открылась перспектива осуществить мучительно откладывавшийся идеал преподавания философии. Георг Фрайхерр фон Хертлинг, который много лет был частным преподавателем в Бонне и которым я очень восхищался, отказался от назначения на католическую кафедру философии в университете Бреслау, чтобы последовать новому призванию в Мюнхен. Он указал на меня. Несмотря на все мои сомнения – во время личной консультации я просил министра фон Госслера первоначально направить меня только в качестве доцента, но это оказалось невозможным, – я с пониманием принял вызов на Пасху 1883 года, радуясь, что теперь смогу полностью посвятить себя науке и работать в соответствии со своим мировоззрением. Конечно, работа была трудной. Ведь без постепенного созревания времени частного лектора, без обязательств и ответственности, я должен был прорабатывать лекцию за лекцией, одновременно осознавая свою собственную точку зрения в непрерывной внутренней дискуссии с современными течениями, особенно с неокантианством и позитивизмом, и в то же время реализуя свое желание писать. Через несколько! семестра я серьезно заболел, и мне потребовался целый год отпуска, чтобы восстановиться.
В течение этого времени мной двигало множество различных интересов. Систематически они – помимо метафизических в связи с историческими системами, из которых возникли «Мысли о метафизике» (1884), направленные, в частности, против позитивизма, – были прежде всего психологическими. Из изучения, в частности, «Физиологической психологии» Вундта у меня возникла идея применить экспериментальный метод к высшим психологическим образованиям, вначале к памяти. Долгое время я проводил с этой целью эксперименты, не найдя, конечно, подходящего для этого средства – методически сформированных рядов слогов, вместо которых я использовал числа. Таким образом, я самостоятельно обнаружил некоторые закономерности в отношении объема памяти, предпочтение первых и последних членов, выгодное распределение повторений и т. п. Однако когда в 1885 году появилась новаторская книга Эббингауза о памяти, в которой с помощью всех средств методической техники были получены результаты, далеко выходящие за эти рамки, я был обескуражен и отказался от своих планов. Исследования психологии мышления, начатые в то время с обычных «кабинетных экспериментов», также были оставлены, и план истории психологии ассоциаций также не был реализован. Но даже несмотря на то, что меня больше привлекали другие задачи, я воздерживался от самостоятельных психологических исследований и вынужден был довольствоваться в основном наблюдением за их ходом, я не потерял к ним интереса. Напротив, я продолжал заниматься им и позже: основал скромный психологический институт в Страсбурге, который впоследствии оставил Г. Штеррингу, когда тот получил назначение, написал педагогико-психологический трактат о восприятии и мышлении (1913) и время от времени писал короткие эссе по психологии и юношеским исследованиям. Как бы я ни отворачивался от психологического смешения биологического развития с логической, эпистемологической и ценностно-этической обоснованностью содержания, которое естественным образом было связано с расцветом психологических исследований, я убежден в важности психологии на своем месте, не только как особой дисциплины наряду с философией, но и как основной философской науки как таковой. Психология и философия остаются для меня неразделимыми. – Следует также упомянуть о логике, которую я напечатал для своей аудитории в 1890 году и в которой я стремился, в частности, реализовать аспект методологии, например, связать силлогистические формы с различными мыслительными задачами.
Однако в первую очередь моя работа по-прежнему была направлена на философские и исторические исследования. Не то чтобы сама философия растворилась для меня в истории. Но, с другой стороны, история ни в коем случае не существовала для меня исключительно ради системы, будь то для того, чтобы просто предоставить ей материал для развития возможных взглядов на тот или иной вопрос, будь то для того, чтобы насильственно сформировать ее как путь к целям, которые должна достичь собственная система. Скорее, она имела для меня ценность как историческое развитие человеческого духа, в котором, как и во всем живом, прошлое остается имманентным настоящему и абсолютный разрыв с прошлым не может быть осуществлен без нарушения непрерывности жизни. Эволюция, а не ниспровержение, была моей программой и в философии. По этой причине, однако, историческая работа также имела для меня фактологическое и систематическое значение. Она также имела для меня непреходящую ценность для самой философской мысли: как спасение и как критика. В первом случае – как сохранение значимых мыслей великих мастеров, достижений исследований, которые, как и сама истина, существуют только сегодня, как строительные блоки философии вечности, как ее называет Лейбниц, в прогрессирующей плодотворности. Известные слова Тренделенбурга в предисловии ко 2-му изданию «Логических исследований» об органическом мировоззрении, которое заложено в Платоне и Аристотеле, продолжается от них и должно быть развито и постепенно завершено в более глубоком исследовании основных понятий, а также отдельных аспектов и во взаимодействии с реальными науками, также направляли меня. Однако, с другой стороны, это историческое наблюдение оказалось лучшим средством критики в противовес рабскому следованию авторитарным предубеждениям. Оно учит нас понимать даже самые высоко ценимые вещи в их исторической обусловленности. Таким образом, она противостоит усилиям простого зависимого повторения, которое не идет дальше простой экзегезы традиций и их постоянно обновляемого применения, а всегда направляет взгляд назад к самим фактическим проблемам через сравнительное и дедуктивное рассмотрение.
В результате моих филологических исследований эта историческая работа периода Бреслау первоначально была сосредоточена на греческих философах. Небольшие работы, некоторые из них литературные, особенно текстово-критические по содержанию, касались Аристотеля и Платона, досократиков, особенно Парменида, платоника Тавроса, Нумения, Прокла и так далее. В «Проблеме материи в греческой философии» (1890) рассматривается более широкая проблемно-историческая тема по образцу «Истории категорий» Тренделенбурга. Моей главной целью в этой книге был анализ и объективная оценка аристотелевской доктрины, которая также должна была стать критическим рассмотрением концептуально-философской трактовки натурфилософских проблем в рамках аристотелизма в целом и продемонстрировать ее ограниченность. Это также было хорошо замечено теми, на кого была направлена критика, и впоследствии иногда приводило к острым столкновениям.
Вполне естественно, что этот способ работы, основанный на примере Тренделенбурга и Целлера, вскоре обратился к тому философскому периоду, интеллектуальные продукты которого интенсивно занимали меня уже в первые годы моей работы и в котором я не переставал видеть органичное дальнейшее развитие греческой философии и в то же время предпосылку современной мысли, которую нельзя было устранить: к Средним векам. Однако этот поворот был не только результатом личного развития, но и объективной необходимостью: мнение о том, что почти вся средневековая философия была пустой схоластикой гениального ума, отвернувшегося от самого предмета, псевдонаукой, связанной авторитетами, которую лучше вообще игнорировать, давно уже перестало преобладать. Французские исследователи, такие как Кузен, два Журдана, Равассон, специалист по рукописям Наигёаи, который, по общему признанию, не был свободен от серьезных заблуждений, пробудили интерес, в частности, к началам. В Германии Риттер сочувственно рассказывал о патристике и схоластике; Штёкль и Карл Вернер подготовили обширные репродукции систем, изложенных во многих томах, предлагая хотя бы внешнее знакомство с ними. Если более глубокое проникновение в средневековую философию долгое время было доступно только в кругах богословов и теологов, которые сами строго следовали Фоме Аквинскому, которого они, однако, неверно отождествляли со схоластикой в целом, и из среды которых вышел ряд превосходных, хотя и никак не исторически ориентированных, описаний томистской доктрины, то теперь интерес к средневековой философии распространялся повсюду, где применялась историческая мысль.
Конечно, для достижения подлинно исторического понимания средневековой философии еще многое предстояло сделать. Многие из наиболее важных для понимания ее развития работ все еще дремали в рукописях или не были опубликованы в достаточном объеме. Длинные лекции о различных! системы в сочетании с восхвалением или порицанием цензуры, как это делал Штёкль, не были историей. Вместо живых потоков и течений мы видели однообразную серость абстрактной теории, из которой отдельные отклоняющиеся явления выделялись как парадоксальные исключения. Знаний о происхождении, источниках, истоках и развитии в ключевых областях по-прежнему не хватало. Прежде всего, два исследователя, Денифле и Эрле, которые, будучи глубокими знатоками рукописей, а также схоластической доктрины и методов исторического исследования, дали решающий импульс исследованиям в этой области, проведя множество новаторских исследований. В нескольких фундаментальных эссе, основанных на богатом рукописном материале, он мастерски раскрыл внутреннюю структуру золотого века схоластики и ее развитие, как она развивалась от более древнего, ориентированного на Августина традиционного взгляда, через борьбу и противостояние с новым аристотелизмом, к окончательному формированию томизма и скотизма. Весь образ «схоластики» начал меняться. То, что подобные исследования приводят не только к чисто историческим результатам, продемонстрировал, в частности, Г. фон Хертлинг в программной работе о AL bertus Magnus, которая показала, как понимание исторического развития может быть использовано и для критической оценки.
Принять участие в решении всех бесчисленных задач, поставленных здесь, – вот задача, которая властно влекла меня. Конечно, меня привлекало не столько синтетическое резюме; вскоре мне стало ясно, что невозможно написать полную, обобщающую, основанную на источниках историю средневековой философии, как это сделал Целлер для греческой философии. Слишком многое еще предстояло выявить и монографически исследовать, и весь мой подход был направлен скорее на анализ и первичное извлечение сведений из источников, чем на окончательное расширение.
При этом я особенно стремился изучить те аспекты, которые, как мне казалось, до сих пор были менее прояснены. В частности, мне открылись движения в кругах художников, в то же время в их связи с научными исследованиями, а также платонические и неоплатонические течения и многообразные последствия этих движений в теологических кругах, особенно в мистицизме. Отсюда можно было многое почерпнуть для генетического понимания теологически ориентированной схоластики, в первую очередь исследованной Денифле и Эрле, которая, конечно, намного превосходила другие по влиянию и длительному значению.
Конечно, для этих исследований, особенно для изучения рукописей, мне пришлось совершить несколько длительных путешествий, которые в то же время принесли мне благоприятное знакомство с выдающимися учеными в Италии, Франции и Бельгии, такими как Эрле в Риме, Клодий Пиат и Пикаве в Париже, Мерсье и де Вульф в Лувене.
Здесь можно лишь вкратце коснуться деталей. Публикация латинского перевода «Источника жизни» еврейского философа Авенсброла (ибн Гебироля), который до этого времени издавался только в очень сокращенном чтении на иврите, должна была представить спорный источник неоплатонического движения. В ее переводчике, испанце Доминикусе Гундиссалинусе, появился первый представитель нового аристотелевско-арабского движения XII века, который все еще работал в полностью компилятивной манере, о котором я дал обобщающую характеристику и для которого серия работ, начатая мной, определила его место в истории. Я вернулся к нему позже, в связи с публикацией работы Альфараби о происхождении наук (1916), которую он перевел и которая характерна для переходного периода. Его работа об Алане Лилльском и публикация рукописного трактата против амальрикейцев, ентиномистской секты, возвысившей неоплатонизм до явного пантеизма и сочетавшей его с иоахимитскими бреднями о временах мира, продвигали в платонических кругах. Правильная позиция учения Николая Автрекурского, совершенно неправильно понятая Наигёаи, данная в контексте связных критических общих докладов, выявила в этом номиналисте XIV века «средневекового Юма» (1897).
Публикация «Impossibilia» Сигера Брабантского впервые сделала известным полное сочинение этого главного представителя латинского аверроизма в Парижском университете – он известен как представитель доктрины двойной истины, в то время как его оппонент Фома Аквинский, как и Альберт Магнус, стремился «христианизировать» Аристотеля и таким образом установить философско-теологический синтез, – которое Фр. Мандонне вскоре опубликовал полное издание, сопровождаемое великолепным историческим очерком. Я не буду вдаваться в различные споры, которые впоследствии последовали за вопросом Сигера; через множество неприятных моментов они, тем не менее, все больше проясняли истинные факты центрального вопроса философского движения в период расцвета средневековой схоластики. Еще во Вроцлаве я завершил первую литературно-историческую часть книги о силезском философе и естествоиспытателе Витело.
Благодаря поддержке дальновидного издателя, интересующегося наукой, я смог основать «Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen» («Вклад в историю средневековой философии. Тексты и исследования»), который объединил многие силы в совместной работе над 22 солидными томами и двухтомниками на сегодняшний день. По моей просьбе Г. Фрайх. фон Хертлинг, чье имя выражало программу со времен его «Albertus Magnus», также выступил в качестве соредактора, начиная со второго тома, но, к его сожалению, не смог принять дальнейшего участия в самой работе, кроме предложения нескольких трактатов его учеников, из-за других многочисленных требований.
III.
После семнадцати лет счастливой деятельности на берегах Одера – я устоял перед соблазном поехать в Вену – осенью 1900 года я последовал призыву в Бонн, на место моего бывшего критика Нойхойзера. Там я снова встретил Бенно Эрдмана, чьим стимулирующим философским обменом идеями я уже наслаждался в течение нескольких лет в Бреслау. Однако, как ни привлекала меня интеллектуальная атмосфера рейнского университета, я покинул Бонн всего через пять семестров, когда получил срочный вызов от факультета и правительства Страсбурга, где в связи с переездом Виндельбанда в Гейдельберг освободилась кафедра, которую я счел своим патриотическим долгом занять. Я никогда не забуду десять лет, проведенных в немецком Эльзасе, которому я посвятил всю свою душу и которому до сих пор с болью предано все мое сердце, после того как на Пасху 1912 года я поменял Страсбург на Мюнхен, чтобы занять там место преподавателя философии Георга фон Гертлинга, как когда-то в Бреслау, который тем временем был назначен с кафедры на должность главы баварского государственного министерства по доверию своего регента.
Но позвольте мне вернуться к внутреннему развитию. В Страсбурге я только завершил «Витело», начатое мною в Бреслау. Я отредактировал неоплатонический трактат о теории интеллекта, который Рубчинский приписывал силезскому Вителло, или, скорее, Витело, из-за сходства его метафизических взглядов, вместе с соответствующими философски значимыми главами «Перспективы». Литературные вопросы уже были рассмотрены в печатной части – с тех пор, конечно, я признал то, что считал возможным с самого начала, что этот трактат старше «Перспективы» Витело, даже если оба принадлежат к одной группе – и краткая ориентация в истории идей должна была завершить работу. Только во время заключения план изменился. Короткий набросок последней главы вырос в толстую книгу, которая была закончена только в 1908 году, но которая, таким образом, представляет собой как бы недостроенный лес, из которого, кстати, кое-кому уже удалось нарубить дров. В нее вошли целые монографии по истории идей. Прежде всего, мне было интересно пролить свет на особенность платонического и неоплатонического движения, значение и распространение которого до этого момента было так мало признано даже в рамках высокой схоластики. Так, анализ мотивов доказательств существования Бога показал характерные различия между старым, концептуально-рационалистическим, и новым, аристотелевским типом, основанным на платонизирующих направлениях мысли, и тем самым позволил найти как место для концепции этого трактата, так и точки зрения для объективной критики такого концептуального реализма внутри самой схоластики. Я также проследил последствия платоновско-августиновской доктрины знания в противовес аристотелевской в соответствии с ее особенностями в рамках высокой схоластики. В частности, я стремился показать, как в контексте этих антиаристотелевских, платонизирующих течений в схоластику проникает воззрение, уходящее корнями в глубочайшую древность, – я назвал его «метафизикой света», – которая, не в чисто фигуральном смысле, видела в свете, происходящем от божественного первозданного света, медиум знания, принцип жизни и одновременно космообразующий фактор. Эта метафизика света в трактате об интеллекте сочеталась с математико-физическим мышлением в «Перспективе» Витело – из которой в то же время прослеживалось ассоциативное объяснение психических образований, восходящее к арабскому Альхазену.
Полученные таким образом знания вскоре распространились по всему миру. Подобный платонизм, сочетавшийся с естественными науками, возник и у других мыслителей, ставших более известными в то время, таких как Дитрих фон Фрейберг и Берхтольд фон Моосбург. Более того, все эти поначалу столь обескураживающие явления были частью целостного платонического или неоплатонического движения, которое в основном базировалось в южной и западной Германии – поэтому я назвал его платонистской «юго-западной немецкой школой», чтобы провести современную параллель. У Альберта Магнуса, наряду с традиционным августинским теологическим направлением, взятым на вооружение Хью Страсбургским, и аристотелевским, продолженным Фомой Аквинским, оно составляло одну из сторон его всеобъемлющей природы, которая оттуда, как и у Дитриха Фрейбергского, перешла к ученику Альберта Ульриху Страсбургскому и, в большей степени, стала решающей для Мейстера Экхарта. Образ мышления Данте также неоднократно оказывался связанным с этим направлением в философских вопросах, несмотря на все его отношения с Фомой Аквинским, особенно в теологических вопросах. В страсбургской речи 1912 года о доле Эльзаса в интеллектуальных движениях Средневековья и мюнхенской речи о платонизме в Средние века (1916), а также в различных других местах я попытался сформулировать эти взгляды более четко. В псевдогерметической «Книге 24 мастеров» (1913) я сделал доступным новый, по общему признанию, более декоративный документ такой платонистской мысли с ее загадочными определениями Бога в неопифагорейской окраске.
Таким образом, при всем моем уважении и признании схоластического синтеза, кульминацией которого стал Фома, я стремился, особенно благодаря его четкой сбалансированности, выявить живое богатство и полное напряжение жизни повсюду, Я также попытался включить натурфилософию Роджера Бэкона, хорошо знавшего язык и природу, и в особенности его учение о материи и форме, индивидуальности и универсальности, в соответствующий контекст (1916).
В ходе многолетнего изучения труда Альфреда Англикуса «De motu cordis» объединилось множество различных интересов. С одной стороны, это было интересное сочетание научных и философских интересов, в котором, однако, к платонизму и неоплатонизму добавилось очень сильное аристотелианство. Это, однако, было связано с другим вопросом, который сам по себе был чисто литературно-историческим, но который, в силу особого, сильно восприимчивого характера средневекового философствования, имел в то же время немаловажное значение для истории философии и к которому меня уже привело исследование о Сигер-ион-Брабанте. Это был вопрос о рецепции настоящих философских трудов Аристотеля, который был известен более древнему латинскому средневековью в основном только как логик. Доказав истинную дату написания более раннего и слишком позднего сочинения Альфреда и определив переводы, которыми он пользовался, отчасти с помощью новых рукописей, можно было получить немалые новые сведения. В кругах «Beiträge» Грабманн затем заново занялся этим вопросом о переводах Аристотеля, всесторонне изучив рукописи.
Недавняя публикация о Петре из Гибернии, земляке Михаила Скота, и его диспуте перед королем Манфредом также относится к аристотелевскому кругу. На основании обнаруженной рукописи мне удалось составить представление о первом философском учителе Фомы Аквинского, который познакомил его с аристотелизмом еще до Альберта Великого и дал ему здесь первое отношение, и таким образом, как мне кажется, это не только вклад в эпоху Гогенштауфенов, но прежде всего тот, который проливает свет на карьеру самого великого из схоластов.
Осталось упомянуть еще два обобщающих описания. То, что казалось мне наиболее значительными аспектами средневековой философии в целом с точки зрения истории идей, как богословов, так и богословски ориентированных философов, и то, что и в наши дни требовало и заслуживало обсуждения, я кратко изложил в разделе о средневековой европейской философии, который появился в общей истории философии в книге Хиннеберга «Kultur der Gegenwart» (1909). Мое стремление там вовсе не заключалось в том, чтобы представить все явления с максимально возможной полнотой и единообразием. Моей целью было охарактеризовать времена, движения и действительно представительных людей и представить как можно точнее, без всякого переосмысления или неверного толкования, те идеи, которым есть что сказать сейчас, как и в свое время. – Аналогичным образом и в соответствии с аналогичными точками зрения, также сознательно избегая благодарной и удобной формы удобного для изучения компендиума, я затем добавил ко второму изданию (1913) в качестве подготовки обзор патристической философии, то есть философских аспектов Отцов, а не всей патристики, включая ее богословское содержание.