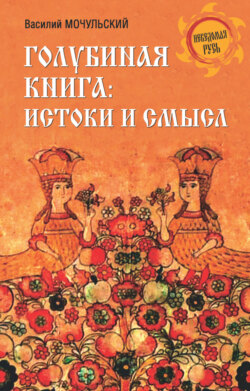Читать книгу Голубиная книга: истоки и смысл - - Страница 5
Введение
ОглавлениеИстория вопроса об исследуемом мною стихе исчерпывается, как я уже сказал, небольшим количеством статей, краткими замечаниями о стихе, сделанными а propos, и обязательными рассмотрениями этого стиха в школьных учебниках. Излагать детально историю вопроса в данном случае я считаю лишним, так как при самом анализе стиха я по необходимости должен буду касаться всех мелочей и взглядов, существующих в литературе по данным вопросам. Более интересным в данном случае представляется проследить те направления, которые сказались в литературе исследуемого вопроса и которые, влияя, естественно, на постановку дела, обусловили собою и самые результаты, добытые наукою в данной области. Первое по времени направление, которое резко обозначилось в литературе рассматриваемого вопроса, можно назвать идеальным, определяя его не по существу, а по тем патриотическим стремлениям, какими проникнуты относящиеся сюда работы. Сущность этого направления заключается в явном или скрытом желании расширить область умственного достояния русского народа, возвеличить мыслительную его самодеятельность, возвысить родную старину, относя черты рассматриваемого памятника к прастарине арийской. Главными представителями этого направления являются Н. Надеждин, Афанасьев, П. Бессонов, отчасти Шевырев, Буслаев и О. Миллер. Надеждин в своей статье «О русских народных мифах и сагах» (Русская беседа 1857 г., т. IV, ч. 2, с. 19), признавая стих о Голубиной книге самим старшим из всех сохранившихся у нас остатков нашей мифической старины, старшим по первоначальному его происхождению, которое, по убеждению Надеждина, должно непременно принадлежать временам силы и цвета народного русского язычества, считает этот стих продуктом чисто народного, русского творчества. А. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» (т. I, с. 51) говорит: «Суеверные сказания, передаваемые стихом о Голубиной книге, составляют общее достояние всех индоевропейских народов, находят свое оправдание в истории языка и совершенно совпадают с древнейшими мифами индусов и с показаниями Эдды: свидетельство в высшей степени знаменательное! Происхождение их, очевидно, относится к арийскому периоду, и рукописные памятники (т. е. апокрифы) могли только подновить в русском народе его старинные воспоминания». П. Бессонов в «Заметках к 4‐му выпуску калек[3] перехожих», замечая вообще о стихах, что они «сложены целым народом, под наитием религиозного творчества, творчества веры», в частности о стихе Голубином говорит, что он носит на себе следы всех постепенных переходов, от отдаленной поры языческого творчества, облекавшейся в туман и таинственность, до торжества самых светлых православных образов (Вып. IV, с. XXVI). Коренную основу стиха о Голубиной книге, по словам Бессонова, составляют древнейшие космогонические сказания, общие великорусскому племени с другими индоевропейскими народами, и в частности с древнейшими религиозными песнопениями греков. Шевырев в своих лекциях (т. I, лекция 5, с. 237), говоря, что в Голубиной книге выражается поэтическая дума народа о начале мира, в то же самое время замечает, что стих о Голубиной книге почерпнут из недоступных источников (прим. 27, с. 257). Более всех писал о Голубиной книге Ф. Буслаев. В своем раннем труде «О влиянии христианства на славянский язык», в котором касается стиха о Голубиной книге (с. 78, 1848 г.), Буслаев явно выказывает то же самое направление, какое подметили мы в трудах упомянутых ученых. Говоря о космогонических преданиях, в которых ясно выразились народные понятия об отношении человека к природе и приводя аналогии из преданий индийских, а затем немецких, Буслаев далее замечает, что «рассеянное по немецким племенам сказание о сотворении мира глубоко проникло в предания русские и долго удерживалось в народе, будучи освящено христианскими понятиями в так называемом стихе о Голубиной книге. Оно так срослось с убеждением и кругом воззрения народа русского, что могло быть заимствовано только из общего индоевропейского источника. Сличение этого стиха с немецкими и другими сказаниями может, так сказать, предложить варианты для воссоздания первобытного предания» (с. 78). «Итак, – заключает далее Буслаев, – космогоническое предание о сотворении человека не только своеземно у нас, но и являет замечательное дополнение к преданиям прочих народов. Мало того, оно так вкоренилось в народные верования, что еще и доселе живет в русских суевериях, и именно, как догмат в расколе духоборцев» (с. 84). В 1861 г. Буслаев буквально повторил тот же самый взгляд на стих о Голубиной книге в І т. «Очерков», в статье «Мифические предания о человеке и природе» (гл. III, с. 144). Но в том же самом томе «Очерков» в статье «Болот Волотович», на с. 455, Буслаев, видимо, изменяет несколько свои прежний взгляд на дело. Здесь он говорит: «Занимающимся русской народной словесностью хорошо известны многие, большею частью, апокрифические источники народного стиха о Голубиной книге, между которыми первое место занимает известная «Беседа трех святителей»; но до сих пор недоставало переходного среднего термина между этими источниками и самым стихом. «Повесть града Иерусалима» составляет именно этот любопытный переход» и есть «первообраз известного народного стиха о Голубиной книге» (с. 455). Во ІІ томе «Очерков», в статье «О народной поэзии в древнерусской литературе», дело изменяется еще более. Здесь (на с. 18) знаменитый народный стих о Голубиной книге и по внешней форме своей, состоящей в беседе между князем Владимиром и Давидом Есеевичем, и по своему содержанию является уже чисто поэтическим воссозданием апокрифической «Беседы трех святителей». Кроме того, здесь указывается также и другой важнейший источник, из которого было взято содержание стиха, – это средневековые бестиарии, т. е. так называемые физиологические сочинения о животных и вообще о природе с примесью самых фантастических, суеверных понятий (с. 20). О. Миллер, как можно судить из многих мест его «Опыта исторического обозрения русской словесности», также колеблется в своих взглядах на происхождение стиха о Голубиной книге, хотя с значительным перевесом в пользу народных основ, в пользу мифическо-арийской давности. Делая упрек Тихонравову по поводу его оценки «Калек перехожих» (см. прим. на с. 308), что он недостаточно усмотрел, при всем неоспоримом влиянии книжности, и стихию народную, несомненно, присущую нашим стихам, Миллер замечает вообще далее, что старания некоторых наших исследователей выказать преимущественно не народность наших духовных стихов останутся неудачными (с. 308, прим.). В частности, о Голубиной книге О. Миллер говорит, что в этой книге под ее позднейшим христианским значением таится основное мифическое (с. 329), а в другом месте прибавляет, что в ответах Голубиной книги заключается один величественный миф и что сравнительная мифология заставляет признать его самым древним, изначальным арийским мифом (с. 334). К этому еще остается прибавить, что сходство относящихся сюда памятников у разных арийских народов не представляет, по мнению О. Миллера, ни надобности, ни возможности предполагать заимствование с той или с другой стороны (с. 333). Таким образом, при всем желании отстоять народность и арийскую давность стиха о Голубиной книге, в этом первичном направлении и главным образом в лице Буслаева, сказалась уже уступка в пользу книжных источников и им же преимущественно дан толчок другому направлению в разработке вопроса о Голубиной книге. Это второе направление, служа естественным продолжением первого, главным образом занято вопросом о книжном влиянии на устные народные произведения, а в том числе на стих о Голубиной книге, а при открытии разных влияний сам собою возникает вопрос о книжных наслоениях на исконно-древней основе народных устных произведении. Этого, так сказать, срединного направления придерживается большинство ученых, работы которых соприкасаются с данной областью. Тихонравов в своем разборе «Калек перехожих» (см. 33‐е присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград), признавая, что народные представления о Голубиной книге сложились под непосредственным влиянием христианских преданий и отчасти книжного греческого апокрифа «Откровение Иоанну Богослову», в то же самое время замечает, что нельзя не согласиться с мнением Бессонова, что в стихе этом вся основа – древнейшая, языческая (с. 204–205). А. Пыпин в своей статье по поводу русских народных легенд, изданных Афанасьевым (см. Современник, 1860 г. № III, март), говорит, что духовные стихи представляют вообще наиболее обработанную поэтическую форму нашей народной легенды (с. 81); и эта, более оживленная, форма легенды, замечает в другом месте Пыпин, уже прямо относится в область народной поэзии – по своему колориту и внешности, но памятники не дают нам возможности определить ясно, в какое время произошло это перерождение народной легенды (с. 80). В «Очерке литературной истории старинных повестей и сказок русских» А.Н. Пыпин говорит: «Иногда народная поэзия заимствовала целые сюжеты из книжных преданий и повестей; это должно было произойти, конечно, там, где сфера книжного знания относилась к живейшей струне в народных понятиях и могла поэтому служить эпическим материалом, и отсюда явились опоэтизированные сюжеты духовных стихов – и стиха о Голубиной книге… Стих о Голубиной книге, одно из любопытнейших произведений русской эпической поэзии, в XVII ст. является как нечто законченное: очевидно, чтоб распространиться в народе, отразить его понятия и принять самый склад выражения, предание, служащее основой стиха, должно было давно усвоиться народу» (с. 18). В другом месте А.Н. Пыпин, ссылаясь на сличения, сделанные Буслаевым по поводу стиха о Голубиной книге и замечая, что эти сличения указывают на тесное сближение в данном случае народной поэзии с литературой письменной и на взаимное их влияние, в частности о стихе, говорит далее, что стих о Голубиной книге диалогической формой одинаково соответствует и книжным памятникам этой категории и произведениям народной словесности. По содержанию он находится в связи с преданиями, заходившими к нам путем литературы. Что касается источников, откуда черпались эти предания, то Пыпин находит их отчасти в азбуковниках (с. 139), отчасти в безымянных сборниках (с. 142, 148) и отчасти в апокрифическом «свитке божественных книг» (см. «Ложные и отреченные книги русской старины». Русское слово, 1862 г., февраль, с. 53).
Иллюстрация к сборнику П.А. Бессонова «Калеки перехожие»
Страница из рукописного азбуковника XVII в.
В. Варенцов в своем сборнике русских духовных стихов, повторяя взгляд Пыпина на происхождение духовных стихов, о стихе о Голубиной книге говорит, что в него вошли мотивы, встречающиеся в «Иерусалимском свитке» и «Беседе трех святителей». Впрочем, добавляет он, несмотря на позднейшую форму, в которую внесено уже много христианского, в нем отражаются черты старинных мифических преданий (с. 15). Ягич в статье: «Die Christlich-mythologische Schicht in dor russischen Volksepik» (см. Archiv für Slavische philologie. V. Jagic. I В. I H. 1875) называя, как я уже сказал выше, стих о Голубиной книге перлом библейско-мифической былины, говорит, что связь этого стиха с христианскими, по большей части космогоническими апокрифами, уже давно известна, и в частности, видимо, вполне соглашается с взглядом Тихонравова и Веселовского о тесной связи помянутого стиха с «Откровением Иоанна» (с. 86). Кроме того, добавляет еще, что стих о Голубиной книге находится также в связи с Псалтырью и с Давидом (с. 87). Относительно животных, встречающихся в стихе, Ягич в примечании (на с. 89) замечает, что начало изображения этих животных в физиологах и бестиариях. Находя, что в этом стихе все мифологическое, все древнеязыческое сокрыто вдали и христианские черты поглотили языческо-мифологическую первооснову, Ягич естественно пришел к мысли «о наслоениях». И.И. Срезневский в библиографических записках по поводу I и II выпусков «Калек перехожих» Бессонова (см. Известия Имп. ак. н. по 2‐му отделению русск. языка и словесности, т. 9), говоря вообще о духовных стихах, заключает, что стихи, сколько ни дороги народу, не могут быть считаемы своеобразным и самобытным произведением народной русской почвы и что, напротив того, в своих первообразах были созидаемы людьми книжными, умножаемы под постоянным влиянием книг и делались достоянием народным точно так же, как и разные знания и мысли, вычитанные из книг. Из этого, впрочем, не следует, добавляет далее Срезневский, что русские стихи на Руси не древни; но следует, что, как бы они ни были по происхождению древни, все-таки они только примкнули к народной поэзии русской, а не составляют ее необходимого явления (с. 380). Почти такого же взгляда на духовные стихи придерживается и А. Котляревский в своем библиографическом обозрении (см. «Старина и народность» за 1861 г.). Он говорит, что духовные стихи возникли в относительно позднее время, в XVI в., и притом, большею частью, из источников литературных: отреченных книг, житий святых и т. д. Они не были ни своеобразными, самобытными произведениями русского народного творчества, ни исключительною собственностью русского народа (с. 55). В другом месте, говоря о космогонических представлениях, вошедших в стих о Голубиной книге и приводя аналогичное предание индийское и древнефризское, Котляревский замечает, что, несмотря на, так сказать, литературную историю этих представлений, он считает, однако, их за чисто народные, за общее достояние индоевропейского племени: в этом убеждают нас сказания древней Эдды о смерти великана Имира и последовавшей за тем космогонии из его тела. А таким памятником, добавляет Котляревский, как древняя Эдда, трудно подкладывать какие-нибудь литературные источники (с. 70). И. Порфирьев в своей статье «Народные духовные стихи и легенды» (см. «Православный собесед.», 1869 г., сентябрь), переходя к стиху о Голубиной книге, говорит, что колорит стиха христианский: и вопросы решаются и все предметы в мире оцениваются с точки зрения христианской. Обстановка стиха также христианская. Но в тоже время видно, что стих составился не под влиянием только чисто церковного учения, но преимущественно под влиянием апокрифических сочинений и народных сказаний, в которых сохранились еще остатки старых мифических преданий разных народов; потому при христианском содержании в стихе много старой космогонической примеси. Из апокрифов всего более имели влияние на стих о Голубиной книге «Беседа трех святителей» и «Иерусалимская беседа». Изложенные в форме вопросов и ответов, они дали стиху и ту форму, какую он имеет, и большую часть вопросов, которые в нем решаются (с. 63). Этот самый взгляд на стих о Голубиной книге Порфирьев буквально повторил и в своей «Истории русской словесности» (часть I, изд. 2‐е, 1876 г., с. 295–296).
Перехожу теперь к последнему направлению, какое сказалось в разработке стиха о Голубиной книге. Если я позволил себе назвать первое направление идеальным, по скрытым, большею частью, патриотическим стремлениям, то это последнее направление, как по его отношению к разработке народных памятников и по некоторой противоположности его первому направлению, смело можно назвать реальным. Как идеальное направление, основанное главным образом на чувствах и сопровождаемое увлечениями, было данью своего времени, так и реальное направление, основанное на чисто объективном отношении к делу, выражающемся в холодном анализе фактов, является продуктом нашего времени. Девизом итого направления служит голый факт[4]. Главным представителем реального направления в разработке стиха о Голубиной книге является А. Веселовский. В своем капитальном сочинении «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе…», касаясь стиха о Голубиной книге – по поводу синкретических ересей и дуалистических учений, Веселовский говорит, что старший, основной стих наших калик, т. е. стих о Голубиной книге, как называет его Веселовский, не только коренится в представлениях дуалистической ереси, но и определяется составом ее главной, учительной книги, содержание которой этот стих сохранил иногда вернее дошедших до нас русских текстов апокрифа. Источником этого стиха не была «Беседа трех Святителей», поздний апокриф, создавшийся, может быть, по образцу «Вопросов Иоанна»; тем [не] менее «Повесть града Иерусалима», иначе «Повесть Иерусалимская», которая, по мнению Веселовского, не что иное, как видоизменение той же Голубиной книги, еще теперь сохранившееся в форме духовного стиха и записанное старинными грамотеями в прозаическом пересказе рукописей. Источник Голубиной книги Веселовский находит в апокрифических «Вопросах Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской», известном «Secretum» западных катаров (с. 165). Эта же отреченная книга «Secretum», известная иначе под названием «Liber S. Joannis» или «Interrogationes S. Joannis et responsiones Christi Domini», будучи главной богомильской книгой, нечто вроде еретического катехизиса, своим происхождением, по мнению Веселовского, не принадлежит секте: она только воспользовалась в данном случае древним апокрифом, так называемым отреченным апокалипсисом Иоанна, переделав его на свой лад (с. 152–153). Но, объясняя этой отреченный книгой «Secretum», а вместе с тем и апокрифическими «Вопросами Иоанна…» слишком немногое в стихе о Голубиной книге, и не имея возможности этими книгами в совокупности объяснить слишком сложный стих о Голубиной книге в полном его составе, Веселовский в своих «Разысканиях в области русского духовного стиха» поместил несколько отдельных монографий, относящихся к исследованию стиха о Голубиной книге. В этих монографиях Веселовский касается нескольких образов, встречающихся в стихе о Голубиной книге, и обилием материала желает уяснить источник и самый склад этих образов, какой отпечатлелся в данном стихе. Так, в монографии № III, «Алатырь в местных преданиях Палестины и легенды о Граале», Веселовский для уяснения «бел-горючего камня Алатыря» – стиха о Голубиной книге – собрал сионские предания о камне, положенном Спасителем в основание Сионской церкви, матери всех церквей, связав эти предания с преданиями о камне, снесенном с Синая и положенном на место алтаря в той же церкви. Стоило было, говорит Веселовский, поработать над этими материалами местной легенды народной фантазии, чтобы найти в них символический центр: алтарный камень, алтарь, на котором впервые была принесена бескровная жертва, установлено высшее таинство христианства. В русской народной поэзии этот алтарь, церковнославян. олтар, стал камнем алатырем (вместо «алтарь»), латырем (с. 23 и 24). В другой монографии, № IV: «Сон о дереве в повести града Иерусалима и стихе о Голубиной книге» Веселовский, приводя разные восточные и западные сказания о чудесных деревьях, и останавливаясь преимущественно на западных средневековых пересказах легенды о крестном дереве, желает или уяснить все черты, с какими является это дерево в сне Голубиной книги. Крестного древа Веселовский касается также и в X монографии под заглавием «Западные легенды о древе креста и Слово Григория о трех крестных древах», а также в своих «Опытах по истории развития христианской легенды», в статье «Откровение Мефодия и византийско-германская историческая сага» (см. Ж. м. н. пр., 1875 г., ч. 178). Эти исследования апокрифического сказания о крестном древе с различными восточными и западными его пересказами имеют вообще ближайшее отношение не только к сну о древе – в стихе Голубином, но также к древу кипарису и к кресту леванитову (лавандову), встречающимся в стихе о Голубиной книге и находящим свое объяснение, по мнению Веселовского, в этом именно сказании о крестном древе (см. «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе», с. 169–174). К реальному направлению в разработке памятников устных народных произведений относится также А.И. Кирпичников, как можно судить, главным образом, из его исследования литературной истории христианской легенды: «Св. Георгий и Егорий Храбрый», где в двух местах, на с. 109 и 167, он высказывает явное свое нерасположение к натурмифологической экзегезе, удобно прилагаемой ко всякому эпическому материалу. В частности он касается также и стиха о Голубиной книге в статье о духовных стихах, помещенной в «Истории русской словесности Галахова» (см. 2‐е изд., 1880 г., т. I, с. 194–204). Здесь, переходя к духовным стихам, А.И. Кирпичников замечает, что невозможно вообще определить с достоверностью, в каком веке сочинен тот или другой стих, тем менее можно узнать об авторе стиха, но почти всегда можно указать книжный источник стиха и, сличая различные редакции стиха, легко убедиться, что начальный стих ближе стоял к книге, а позднейшие певцы все более и более придавали ему форму и характер песни народной (с. 198). Литературный источник, продолжает далее Кирпичников, для многих вопросов и ответов Голубиной книги может быть указан в так называемой «Беседе трех святителей» и в вопросах «От скольких частей создан был Адам», которые, по мнению Кирпичникова, есть не что иное, как только другая редакция «Беседы трех святителей». Голубиная книга стоит вообще, по его мнению, на христианской почве (с. 201). Для некоторой полноты очерка остается еще упомянуть о П.С. Билярском, взгляд которого вообще на происхождение стихов даст право и его причислить также к реальному направлению. В своем мнении о книге П.А. Бессонова «Калеки перехожие» (см. Изв. Акад. наук, т. X, с. 256–259) П.С. Билярский не допускает в духовных стихах никакого творчества: «Какое творчество там, – говорит Билярский, – где берется готовое содержание, впрочем, очень худо прочитанное или выслушанное, и передается грубым простолюдином по крайнему его разумению? По это крайнее разумение справедливее назвать неразумием! Не говоря уже об искажении положительных сведений, каковы местные данные, имена и положения лиц и т. д., хуже всего то, что в содержании, взятом из церковных книг, при пересоздании нашими песнотворцами, нравственное достоинство чуть ли не всегда понижается, а иногда решительно уничтожается. Итак, «стихи» служат, по мнению Билярского, не отражением русской жизни, а служат выражением душевного настроения одного класса народа (певцов-калик).
Калики перехожие. Художник И.М. Прянишников
Соломон освящает Храм. Гравюра XIX в.
В заключение этого краткого очерка долгом считаю предупредить читателя, что, держась в своем исследовании стиха о Голубиной книге строго реального направления, я позволю себе также приводить аналогии из области народных представлений для того, во-первых, чтобы показать имеющееся в данном случае сходство и различие чисто народных представлении от книжных, во-вторых, для того, чтобы лучше осветить наличные факты, в-третьих, ввиду тех соображений, что книжный памятник, пущенный в народное обращение, мог естественно возбудить народные реминисценции, отразить их и на себе или в виде осложнения и смеси образов, или в виде замены одного образа другим, или в виде, наконец, переиначивания самой рамки действия – обстановки происходящего или произошедшего события, трактуемого в данном памятнике.
3
Калеки (калики) часто употребляется в словосочетании «калики перехожие». Это устойчивое обозначение странников, живших преимущественно милостыней и исполнявших преимущественно духовные стихи и былины. Сейчас чаще употребляют написание через «и», но в настоящем издании мы сохраняем в нескольких местах авторский вариант, чтобы облегчить в случае необходимости поиск источников, на которые ссылается автор. – Ред.
4
Замечу здесь кстати, не касаясь стиха о Голубиной книге, что, как идеальному направлению, вращающемуся преимущественно в области чувств, – в разработке памятников, – подобных исследуемому нами, более всего пришлась по вкусу мифологическая экзегеза – удоборастяжимая и удобоприменимая ко всякому эпическому материалу, так точно и реальное направление в своих поисках и добывании фактов выказывает временами склонность к бенфеевской теории заимствования.