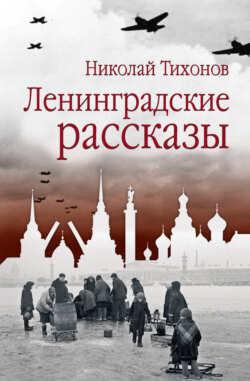Читать книгу Ленинградские рассказы - - Страница 3
Предисловие
ОглавлениеПервый секретарь Союза писателей СССР Георгий Марков в 1982 году говорил, что Николай Тихонов – «большой и еще неразгаданный человек, много в нем еще неразгаданного и интересного. Однажды он при мне поправил грузинских академиков. Он очень хорошо знал историю и вообще он военный историк по происхождению…» Мы попытаемся разгадать некоторые загадки тихоновской биографии.
Выдающийся русский поэт и писатель Николай Семенович Тихонов родился 3 декабря (21 ноября) 1896 года в Петербурге, в доме по адресу: Гороховая, 11, где когда-то жил А.И. Герцен. Место его рождения сомнения не вызывает. А вот в годе рождения определенные сомнения остаются. Дата рождения Тихонова известна нам только с его собственных слов, соответствующие метрические документы до сих пор не найдены. А отца поэта, Семена Сергеевича Тихонова, вряд ли справедливо именовать простым парикмахером и ремесленником, да еще едва сводившим концы с концами, как подчеркивал в автобиографиях его сын. В последнем предреволюционном справочнике «Весь Петроград на 1917 год» Семен Сергеевич Тихонов числился владельцем магазина «Парики», расположенном по адресу его места жительства: Гороховая, 11. Поэтому правильнее называть его не ремесленником, а предпринимателем. Магазин, расположенный в самом центре столицы империи, должен был приносить приличный доход. Как писал сам Николай Семенович в неопубликованных при жизни автобиографических заметках, «Отец – строгий, суровый человек. Любил порядок. Дети его боялись. Был очень хороший мастер своего дела – парикмахер. Делал прекрасные парики, накладки генералам и др. Участвовал во Всемирной выставке в Париже в 1900 году. К нему однажды пришла девушка – еврейка, работница фабрики. Ее длинные волосы – косы – затянуло в барабан и сняло скальп. Отец сделал ей два прекрасных парика. Она потом вышла замуж». Простой ремесленник вряд ли бы стал участвовать в Парижской всемирной выставке и иметь квартиру и магазин в самом центре Петербурга. Отец Тихонова является главным героем рассказа «Чудо», который писатель после 1918 года ни разу не переиздавал из-за его явной антисоветской и антибольшевистской направленности. Но там Семен Иванович Клокачев является не бизнесменом, а чиновником, вероятно, чтобы вписать его в категорию безвинно страдающего «маленького человека» – чиновника, начиная от гоголевского Акакия Акакиевича и кончая героями Достоевского и Чехова. Фамилия Клокачев, по всей вероятности, была подсказана писателем следующим эпизодом, приведенным Николаем Семеновичем в автобиографии 1926 года: «Когда он (Н.С. Тихонов. – Б. С.) учится в Алексеевской торговой школе, инспектор зовет его родителей и просит их переменить фамилию сына, назвав его Бойцовым. Родители не согласны». Нельзя исключить, что в действительности Семен Сергеевич имел классный чин, но им он мог быть награжден только за благотворительность. Но для подобной благотворительности бизнес Тихонова-старшего должен был иметь значительный оборот. Впрочем, нельзя исключить, что у Семена Сергеевича были и другие активы кроме магазина париков. И наверняка для изготовления париков у него было несколько работников или работниц, вряд ли он один мог изготовить достаточно париков для удовлетворения спроса. И, скорее всего, он еще владел несколькими парикмахерскими, чтобы постоянно иметь сырье для париков. В «Чуде» Семен Иванович Клокачев, в отличие от отца писателя, но подобно легендарному доктору Фаусту, представлен одиноким человеком.
Можно не сомневаться, что к моменту написания рассказа «Чудо», опубликованного 25 мая 1918 года, С.С. Тихонов уже умер. В автобиографии 1926 года Тихонов сообщал, что его отец умер в 1918 году от голода. Однако рассказ был написан не позднее начала мая 1918 года, а тогда голода в Петрограде еще не было. Судя же по тексту рассказа, Семен Сергеевич стал жертвой толпы, и прежде всего революционных матросов и солдат в январе или феврале 1918 года, вскоре после захвата власти большевиками и в то время, когда ленинский Совнарком еще находился в Петрограде. Скорее всего, в «Чуде» Тихонов изложил обстоятельство смерти отца близко к действительности.
Н.С. Тихонов утверждал, что окончил Алексеевскую торговую школу в Петербурге, а с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. В автобиографии 1973 года Тихонов утверждал, что после окончания Торговой школы «пришлось поступить на службу в Военно-морское хозяйственное управление, чтобы начать зарабатывать кусок хлеба, в помощь семье. Общение с моряками, их рассказы о путешествиях, о разных странах, куда они плавали, производили на меня большое впечатление. Во время ночных дежурств я много беседовал с людьми, близко принимавшими к сердцу трагедию русского военно-морского флота, говорившими о революционных традициях Свеаборга и Кронштадта, о броненосце “Потемкин” и лейтенанте Шмидте, о прошлом и будущем флота. Некоторые мои собеседники были людьми передовых взглядов, и их смелые суждения о судьбе России сильно мне запомнились. Конечно, далеко не со всеми я мог говорить так откровенно и находить взаимное понимание». Трудно себе представить, чтобы сотрудники Морского министерства, офицеры и чиновники, рассказывали Тихонову «о революционных традициях Свеаборга и Кронштадта». Зато версия об этой службе понадобилась для того, чтобы прикрыть учебу, скорее всего, в Отдельных гардемаринских классах. В «Старателях» упоминается далеко не самый известный греческий полководец Мемнон Родосский (около 380 до н. э. – 333 до н. э.), служивший в персидской и достаточно успешно сражавшийся с греко-македонской армией Александра Македонского. А вот в военном училище Тихонов мог о нем узнать. В случае, если верна эта версия, приходится допустить, что Тихонов был старше, чем писал в анкетах, и, возможно, родился в 1894 или в 1895 году. В автобиографии 1922 года Тихонов писал: «Учился, думал коммерсантом буду, а вышел гусар». Судя по сведениям, сообщаемым в повести «Старатели», в 1917 году автобиографический Тихонов с прозрачной фамилией Мирцев служил в 17-й кавалерийской дивизии, располагавшейся вблизи Риги. Гусарским полком в этой дивизии считался носивший парадную гусарскую форму полк офицерской кавалерийской школы (ОКШ). Однако Мирцев служит не в полку ОКШ, а в 20-м Финляндском драгунском полку, который вместе с полком ОКШ составлял 1-ю бригаду 17-й кавалерийской дивизии. И именно 20-й полк, а не полк ОКШ участвовал в разоружении и расформировании солдат 10-го Сибирского стрелкового полка 3-й Сибирской дивизии 6-го Сибирского армейского корпуса, отказавшихся идти на фронт. Причем, как свидетельствуют документы, Тихонов был весьма точен в описании этой карательной операции. Это говорит в пользу того, что он действительно служил, по крайней мере, в 1917 году, в 20-м драгунском полку, а не в полку ОКШ.
Вот документальное описание событий, которые послужили основой для повести «Старатели». 14 августа 1917 года в Журнале военных действий (ЖВД) 20-го Финляндского драгунского полка было записано: «Получен приказ: полку с рассветом 15-го выступить в распоряжение начальника 3-й Сибирской стрелковой дивизии для расформирования 10-го Сибирского стрелкового полка. К вечеру № 3 и № 4 эскадроны заменены на побережье эскадронами полка ОКШ».
15 августа в ЖВД было описано, как этот приказ был исполнен: «3 эскадрона вошли в состав отряда командира полка полковника князя Гагарина (учебные команды 9-го и 12-го полков, батарея О.А.Д., 2 броневых автомобиля и 3 эскадрона). В 6 час. у Кирхе с. Киш сосредоточены 2 учебные команды и № 1 эскадрон.
В 61/2 часа № 2 эскадрон с броневиком у перекрестка дорог юго-западнее Каупнека. В 61/2 часа № 4 эскадрон у местечка Тренч.
В 7 час. отрядом охвачено расположение № 1 и № 3 батальонов в местечке Каупенек. Батальоны расформированы. К 9 час. 30 м. расформирование закончено, зачинщики, № 3 эскадрон в распоряжение полковника Зевакина расформировывает 2-й батальон того же полка.
От № 4 эскадрона взвод охраняет арестованных 150 солдат для отправления в гор. Ригу к этапному коменданту, № 4 эскадрон сопровождает арестованных в гор. Ригу, полк в 12 час. 50 мин. возвратился в местечко Майорингоф». (Там же. ЛЛ. 10–11).
20 августа, когда полк по полученному 19 августа приказу перемещался из Майорингофа в мызу Линденруэ вблизи Торенсберга, около 10 час. 30 мин. «мимо полка прошло несколько партий пехотинцев 109-й дивизии, бросившие винтовки, часть и без сапог. Некоторые заявляли: «Слава Богу уходим домой». Усилиями офицеров и драгун некоторых удалось погнать обратно в окопы». (Там же. Л. 13).
А вот как события, связанные с расформированием, отразились в Журнале военных действий 10-го Сибирского стрелкового полка: «14 августа состоялось собрание полкового и ротных комитетов, на котором обсуждалось требование товарища Минца: “К 4 ч. 15 августа 18 требуемых лиц должны быть в штабе дивизии, в противном случае последует расформирование”. После долгих и горячих прений была вынесена рекомендация “принятия” 13 голосами при 3-х воздержавшихся и 7-ми против о высылке требуемых лиц.
15 августа. К назначенному часу (4 ч.) требуемые комиссаром 18 человек не были доставлены в штаб дивизии. К 7 часам полк уже был оцеплен кавалерийскими полками, на дороге стояли бронированные автомобили – приняты были все меры для расформирования полка. Вид броневиков и кавалеристов заставил полковой комитет исключить высылаемых людей. Многие отправились добровольно. 8-я рота отказалась выдать главного дезорганизатора Пушкаренко. Не выдала и после категорического приказа товарища Минца. После этого тов. Минц приказал 8-й роте выдать оружие, и они, как и арестованные 18 человек, были под сильным конвоем отправлены в Ригу.
Во время следования кавалеристов через расположение полка, они подверглись всевозможным оскорблениям со стороны пехотных солдат, не сочувствующих аресту 8-й роты и 18 человек.
С вечера роты отправились на работу». (РГВИА, ф. 3344, опись 1, дело 113. ЛЛ. 43–46, https: //gwar.mil.ru/documents/view/? id=51530667)
В повести «Старатели» совпадает с реальностью и состав карательного отряда, и порядок его действий, и реакция разоружаемых солдат. Вот только в повести расформировывают только один батальон, тогда как в реальности был расформирован целый полк. Это небольшое отступление от истины понадобилось для того, чтобы ввести эпизод с поездкой генерала Растягина к своим солдатам, в результате которой два батальона согласились занять оборонительные позиции. А причисление себя к гусарам, а не драгунам, о чем Тихонов неоднократно упоминал в автобиографиях, понадобилось для того, чтобы скрыть свое участие в усмирении взбунтовавшихся солдат-пехотинцев. Мирцев в повести – член полкового комитета 20-го драгунского полка. В автобиографии 1951 года Тихонов с гордостью отмечал, что на выборах полкового комитета семьсот гусарских сабель было поднято за него. Но, по всей вероятности, на самом деле сабли были не гусарские, а драгунские.
Мирцев в повести служит в команде связи полка. Судя по тому, что он – единственный из членов комитета является обладателем френча, Тихонов был офицером – начальником полковой команды связи. Обычно эту должность занимал офицер в чине прапорщика или подпоручика (корнета). Иногда в команде связи мог быть второй офицер на должности младшего офицера. Но, судя по описанному в повести, Мирцев в команде связи является единственным офицером. В поэме «Выра» автобиографический герой представляется комиссару Ракову телефонистом, что говорит о его принадлежности к команде связи. Писать же об офицерстве автобиографического персонажа в созданной в СССР поэме было слишком рискованно.
Есть документальное доказательство того, что в 1917 году Тихонов был офицером в чине прапорщика. 28 октября 1917 года в ЖВД Финляндского полка было записано: «В 23 ч. отдано приказание командиру № 2 эскадрона о том, что ввиду предполагаемого прибытия латышских стрелков по железной дороге командующий войсками (новый начдив-17 генерал-майор князь Николай Леванович Меликов (1867–1924), в 1915–1917 годах командовавший 20-м Финляндским драгунским полком, вступил в командование 17-й кавалерийской дивизии 16 октября, также стал начальником гарнизона Валка, а 27 октября – командующим войсками Валкского района. – Б. С.) приказал эскадрону быть в полной боевой готовности. Выставить на ст. Валк пост из 3-х драгун, которым приказать находиться в телефонной комнате и сообщать немедленно о выходе из Вендена воинского поезда с латышами командиру полка и командующему войсками. Выслать с первым товарным поездом одного офицера и три драгуна в Вольмар и столько же в Юрьев, которым явиться, первому комкор 43, а второму коменданту станции. О движении латышских частей сообщать условной телеграммой на имя командующего войсками. Офицерам и драгунам оставаться до получения приказаний.
Получено извещение, что к утру прибудет ударный батальон и что вся 17-я дивизия переходит в Валк. № 3 и № 4 эскадронам быть в полной готовности. Командиру № 1 эскадрона приказано в 23 ч. выслать немедленно разъезд в 3 чел. с офицером на ст. Стакельн. Для вида приказано искать фураж. В случае прибытия поезда с латышами офицеру дать шифрованную телеграмму на имя командующего войсками.
Эскадрону быть в полной боевой готовности». (Там же. ЛЛ. 84–87). И исполнение этого приказа фиксируется в журнале военных действий 20-го драгунского Финляндского полка с 1 августа 1917 года по 20 апреля 1918 года в записи под 4 ноября 1917 года: «4.XI. В 17 ч. получено донесение от прапорщика Тихонова из Вольмара, что 300 вооруженных латышей сели в поезд и направляются в Валк». (Российский Государственный Военно-исторический архив, фонд № 3572, 20-й драгунский Финляндский полк, опись 1. Дело 409, л. 92, https: //gwar.mil.ru/documents/view/51519977/? parent=51520314&obraz=51752908) Поскольку задачей было как можно скорее передать по телефону или телеграфу информацию об отправке вооруженных латышей в Валк, в Вольмар, скорее всего, отправили начальника полковой команды связи. В более ранних журналах военных действий Финляндского полка фамилия Тихонова не встречается ни разу. Также ни разу не упоминается начальник полковой команды связи. Дело в том, что офицер, занимавший эту должность, основную часть времени находился при штабе полка и какой-то самостоятельной роли, которая могла быть отмечена в ЖВД, как правило, не играл. Только в кризисные дни осени 1917 года, в связи с растущим разложением армии, когда этот процесс коснулся и ранее более устойчивых к разложению кавалерийских частей, последовавшей Октябрьской революцией и захвата власти большевиками, журнал стал вестись более подробно, с указанием командировок офицеров. Возможно, это было связано с тем, что гораздо менее аккуратно стали вестись документы по строевой части, и часть соответствующей информации стали заносить в ЖВД. Судя по всему, в первые дни после взятия Зимнего командование 17-й кавалерийской дивизии при поддержке оборончески настроенных полковых и дивизионного комитетов вынашивало планы похода на Петроград. Однако от них пришлось очень быстро отказаться как из-за негативного отношения к этому проекту командования 12-й армии и Северного фронта, так и, главным образом, из-за стремительно развивавшейся большевизации войсковых комитетов и солдатских масс и нежелания основной массы солдат даже прежде стойких кавалерийских частей воевать. Латыши – это вставшие на сторону большевиков латышские бригады, которые собирались сменить комитет и командование 20-го Финляндского драгунского полка в Валке, и Тихонов вовремя успел сообщить об их выдвижении в Валк. 5 ноября выдвинувшийся из Вольмара 6-й латышский полк без боя занял Валк, где также находились штаб 12-й армии и Искосол (Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов 12-й армии). Командование и комитет Финляндского полка остались прежними, но они больше не находились в оппозиции к большевикам.
Время производства Тихонова в офицерский чин в документах найти не удалось. В ЖВД Финляндского полка 7 октября 1917 года записано: «Произведены в прапорщики подпрапорщики Шипуля, Тиханов и Семенов» (Там же. Л. 75). В данном случае речь идет не об описке составителя журнала, а о похожей на фамилию поэта, но другой фамилии. Николай Семенович, имея два Георгиевских креста, теоретически мог быть подпрапорщиком, но на практике это кажется маловероятным, так как в этот чин производились только вахмистры с большой выслугой лет.
Подпрапорщик Яков Михайлович Тиханов, из крестьян, родившийся 28 апреля 1891 года в деревне Лунгачевский Остров Шахновской волости, Ново-Ладожского уезда, Петроградской губернии, реально существовал. Он был награжден Георгиями всех 4-х степеней, причем в наградных списках отмечено только его награждение Георгиевским крестом 1-й степени (№ 3078) (РГИА. Фонд № 496, опись № 3, ед. хр. № 902. Л. 44). Однако в 1916 году он служил фельдфебелем в 1-м Финляндском стрелковом полку. Но нельзя исключить, что в 1917 году он мог перевестись в 20-й Финляндский драгунский полк.
Если судить по повести, то автобиографический герой был офицером еще до Февральской революции, поскольку в полковом комитете, избранном вскоре после революции, он единственный офицер и, по всей видимости, избирался по квоте офицеров. Верховный главнокомандующий генерал М.В. Алексеев уже 11 марта 1917 года в телеграмме главнокомандующим фронтами предложил «стать на путь компромиссов» ради «сохранения в армии дисциплины, порядка, подчинения начальникам» и ввести в состав созданных явочным порядком войсковых комитетов офицеров для сближения с солдатскими массами, чтобы «взять ход событий в свои руки». Как правило, в состав комитетов избирались младшие офицеры в чине прапорщика, подпоручика (корнета) или поручика. Можно предположить, что Тихонов был произведен в прапорщики или в начале 1917 года или в 1916 году. Возможно, он был выпущен из школы прапорщиков или из Николаевского, Тверского или Елисаветградского кавалерийских училищ после окончания 8-месячного ускоренного курса. Но пока не удалось найти каких-либо документов, подтверждающих службу Тихонова в полку ОКШ. Не исключено, что после окончания школы прапорщиков или училища он был сразу направлен в 1916 году или в начале 1917 года в 20-й Финляндский драгунский полк, а в полку ОКШ никогда не служил, и писал о службе в полку ОКШ в автобиографиях, чтобы замаскировать свою службу в 20-м Финляндском драгунском полку, с которым ему пришлось подавлять антивоенное выступление сибирских стрелков.
Вот дальнейшие события, связанные с жизнью Тихонова и отраженные в ЖВД Финляндского полка. 9 ноября 1917 года тамбыло отмечено: «Командированы в стрелковый полк корнет Романовский и прапорщик Тихонов» (Там же. Л. 94). А 5 декабря по Финляндскому полку было «отдано приказание о снятии погон и внешних знаков различия» (Там ж. Л. 96). 18 декабря Тихонов был выбран командиром 3 эскадрона финляндских драгун. (Там же. Л. 98. https: //gwar.mil.ru/documents/view/? id=51520314) 1 января 1918 года он вместе с другими выборными должностными лицами был утвержден полковым и дивизионным комитетом и объявлен в приказе (Там же. Л. 99). Тихонов, очевидно, перестал быть членом полкового комитета, поскольку был выбран командиром эскадрона. А 14 января 1918 года в полку была «открыта запись в социалистическую красную армию» (Там же. Л. 100). 14 февраля уже нового стиля был выработан план демобилизации полка, которая должна была закончиться после его перехода в Новгород. Переход в Новгород предполагалось начать не позднее 10/23 февраля, при этом не подлежали роспуску те, кто был призван в 1914–1918 годах, «до полного сформирования социалистической армии». (Там же. Л. 102). 20/7 февраля появилась следующая замечательная запись: «Ввиду обременения полка лошадьми на каждого всадника приходится по три лошади. Полковой к[омите] т, считая, что полк при таких условиях не может встретить немцев с оружием в руках, постановил полку отходить на Верро, Псков, Новгород, где полку давно уже назначена стоянка и отведены квартиры». Отступление началось 22 февраля 1918 года. Как отмечено в журнале, 24 февраля «3-й эскадрон, проходивший утром через г. Верро, был обстрелян прибывшим туда неприятельским разъездом, и присоединившимися к нему белогвардейцами, во время перестрелки убит командир эскадрона тов. Тихонов. Строевой частью канцелярии уничтожены все дела за 1917 г. и часть за 1916–1918 гг. ввиду невозможности вывезти вследствие перегруженности возов и сильного утомления лошадей» (Там же. Л. 112).
Таким образом, в феврале 1918 года товарищ Тихонов сослуживцами считался погибшим. Мы, разумеется, прекрасно знаем, что Николай Семенович не погиб тогда, а прожил еще 60 лет. Тогда, в хаосе беспорядочного отступления, его вполне могли ошибочно посчитать погибшим. А вот что случилось с ним 24 февраля и в последующие недели, точно сказать нельзя. Маловероятно, что он попал в плен, так как уже в конце марта 1918 года смог опубликовать в «Ниве» свое первое стихотворение. Из плена это сделать было весьма затруднительно. Если Николай Семенович и побывал в германском плену, то очень короткое время, всего несколько дней, после чего бежал. При желании бежать из германского плена в тот момент было несложно из-за крайней малочисленности передовых частей наступавших германских войск, которые не могли эффективно охранять большое число захваченных русских пленных. Но, вполне возможно, Тихонов в плену не был, а, отстав от своего полка, примкнул к какой-то другой части, сохранявшей относительный порядок и желание драться с немцами. Такой частью, в частности, был отряд Особой важности (партизанского) имени Атамана Пунина штаба Северного фронта, которым в феврале 1918 года командовал С.Н. Булак-Балахович. Это была в тот момент одна из немногих частей Северного фронта, реально оказывавшего сопротивление немцам. На его базе был сформирован Лужский партизанский (1-й конный) полк Красной Армии, в котором, как мы увидим дальше, служил Тихонов.
Вероятно, в дальнейшем Тихонов от кого-то из сослуживцев узнал, что его считали погибшим и что основная часть бумаг полка была уничтожена при отступлении. Это обстоятельство должно было облегчить Николаю Семеновичу сокрытие при необходимости того факта, что в Русской императорской армии он служил офицером. Даже если чекисты каким-то чудом смогли бы установить, что Тихонов действительно служил в 20-м Финляндском драгунском полку, и нашли бы журнал боевых действий полка с упоминанием прапорщика Тихонова, поэт всегда мог бы сказать, что это был совсем другой Тихонов, который погиб в феврале 1918 года. На всякий случай Тихонов путал следы, утверждая, что служил гусаром, а не драгуном. И никогда не переиздавал опубликованные в 1918 году в «Ниве» рассказ «Чудо» и повесть «Старатели» из-за их крайне антисоветского и антибольшевистского содержания. Удивительно, как их пропустила цензура. Возможно, публикация тихоновской прозы стала одной из причин закрытия журнала «Нива» властями в сентябре 1918 года.
«Чудо» и «Старатели» – это один из ранних примеров, а возможно – и самый ранний пример фаустианы на тему революции 1917 года. Самосуд над Семеном Ивановичем Клокачевым, новым Фаустом, происходит по наущению нового Мефистофеля – смуглого человека с черной эспаньолкой. Но Бог перед смертью награждает Клокачева, так и не продавшего душу дьяволу, чудом – он видит неземной свет – смеющееся солнце. Михаил Булгаков внимательно читал «Чудо», когда создавал свою знаменитую фаустиану – роман «Мастера и Маргарита». У Тихонова главный герой – человек безгрешный, но не творческий, что в рассказе всячески подчеркивается, награжден светом. У Булгакова Мастер – творческий гений, хотя и грешный, и он награжден не светом, а покоем. Эпизод же с чужим кошельком, который черт непонятно как подбросил к карман Клокачеву, отразился в том эпизоде «Мастера и Маргариты», где Коровьев дает взятку управдому Никанору Ивановичу Босому увесистой пачкой рублей, которые потом чудесным образом превращаются в доллары, причем «пачка сама вползла к нему в портфель». Булгаков также внимательно прочел «Старателей», откуда он позаимствовал придуманную Тихоновым фамилию Мирцев. Вплоть до 1938 года фамилия Мирцев рассматривалась в качестве варианта фамилии того персонажа, который в окончательном тексте «Мастера и Маргариты» стал Михаилом Александровичем Берлиозом. Фамилия Мирцев прозрачно указывала на прототипа будущего Берлиоза – известного журналиста М.Е. Кольцова (1898–1940). Не исключено, что Булгаков в 1938 году окончательно отказался от фамилии «Мирцев» для председателя МАССОЛИТа, опасаясь, что Тихонов тогда может подумать, что он послужил одним прототипом этого малосимпатичного персонажа. Николай Семенович в 1930-е годы уже был видным литературным функционером, делал доклад о современной поэзии на I съезде советских писателей, был руководителем Ленинградской писательской организации. Но, в отличие от булгаковского Берлиоза, никакого отношения к антирелигиозной пропаганде Тихонов никогда не имел, и его стихи никогда не были антихристианскими. В том же № 22 «Нивы» за 1918 год, где была начата публикация «Старателей», был опубликован очерк А.В. Амфитеатрова «Вечный странник. Католическая легенда» (С. 344–347). Там, в частности, приводилась легенда о том, как награжденный за свой грех муками бессмертия Понтий Пилат бросается с горы в озеро в Гельвеции (нынешняя Швейцария): «Но умер ли он, – кто знает? Гора с тех пор зовется горою Пилата, а озеро подверглось заклятью. Ужасающие бури волнуют его по ночам, адские тени пляшут на нем. Раз в год появляется на берегу и Пилат, в одеянии судьи. И кто его увидит, умрет». В эпилоге «Мастера и Маргариты» Булгаков использовал эту легенду, чтобы показать судьбу Пилата, а также дарованное ему в наказание бессмертие.
Возможно, именно знакомство с «Чудом» и «Старателями» подтолкнула Булгакова к созданию новой фаустианы – романа «Мастер и Маргарита». А знакомство с очерком А.В. Амфитеатрова могло подсказать сделать Понтия Пилата главным героем ершалаимских сцен.
В «Старателях» новым Мефистофелем становится «товарищ Зейман», председатель полкового комитета Финляндского драгунского полка, по всей видимости – унтер-офицер. С его мысли об оперном Мефистофеле и начинается повесть. «Зейман» (от голландского Zee-man – морской человек, мореплаватель) – это самоназвание кадетов и гардемаринов Морского кадетского корпуса, выпускники которого всю последующую жизнь называли себя «зейманами». Это наводит на мысль, что Тихонов окончил Морской кадетский корпус. Но туда принимали только потомственных дворян или детей служащих морского ведомства. Ни тем и ни другим Тихонов не был. А вот на открывшиеся в Петербурге осенью 1913 года Временные курсы юнкеров флота, преобразованные 1 июня 1914 года в Отдельные гардемаринские классы, где не было столь строгих сословных ограничений, он поступить мог. (Подсказано Андреем Анатольевичем Смирновым, которому приношу искреннюю благодарность.) После начала Первой мировой войны Тихонов, как он писал в автобиографиях, мог уйти добровольцем на фронт и попасть в полк Офицерской кавалерийской школы, который из-за парадной гусарской формы неофициально называли гусарским, или сразу же начать службу в 20-м Финляндском драгунском полку. Николай Семенович воевал храбро и, судя по спискам награжденных Георгиевскими крестами, удостоился крестов 3-й (№ 15 889) (РГИА. Фонд № 496, опись № 3, ед. хр. № 904. Л. 135) и 4-й (№ 319050) (РГИА. Фонд № 496, опись № 3, ед. хр. № 914. Л. 7) степеней. А в 1915 или 1916 годах он мог быть направлен в школу прапорщиков или в кавалерийское училище.
В «Старателях» Зейман оказывает разрушительное действие на окружающих, разлагает войска и чуть было не овладевает душой нового Фауста – генерала Растягина. Под его влиянием принимается решение о проведении карательной операции против непокорных солдат. Только ее реальное время – середина (по новому стилю – конец) августа было перенесено писателем на вторую половину июля, чтобы оно попало на время июльской жары. Ведь жара – это один из традиционных признаков присутствия нечистой силы. Соответственно, на конец июля Тихонов сдвинул начало германского наступления на Ригу. В действительности оно началось 19 августа (1 сентября) 1917 года, а разоружение 10-го Сибирского стрелкового полка, в котором участвовали финляндские драгуны, происходило 15/28 августа. Только отвлечение Зеймана на веселый вечер выводит Растягина из-под действия его чар, и новый Фауст, спасая свою душу, кончает с собой, что собирался сделать Фауст в поэме Гёте перед появлением Мефистофеля. Зейман одалживает у Мирцева офицерский френч, что усиливает его сходство с главой Временного правительства А.Ф. Керенским, так что последний тоже ассоциируется с Мефистофелем. Мирцев же ассоциируется с Валентином. Он единственный из действующих лиц в повести назван не только по фамилии, но и по имени – Валя, т. е. Валентин. Именно на Валентина обращает внимание лирический герой Тихонова в стихотворении 1917 года «В опере в Риге». Но поскольку Фауст у Тихонова гибнет, то Валентин остается в живых.
Вероятный прототип Зеймана-Мефистофеля – председатель полкового комитета 20-го Финляндского драгунского полка. В журнале военных действий этого полка в период с 16 августа 1917 года по 21 апреля 1918 года в записи от 11 апреля 1918 года в составе ликвидационной комиссии были упомянуты: председатель полкового комитета Олефер, товарищ председателя Томсон, секретарь комитета Перепелкин, командир полка Гагарин и комиссар полка А. Блюм, помощник командира полка по хозяйственной части Фохт и полковой адъютант Федоров. (д. 409. Л. 118). Скорее всего, Олефер был председателем полкового комитета и в августе 1917 года, когда происходило расформирование 10-го Сибирского стрелкового полка. Замечу, что фамилия Олефер, как и фамилия Зейман, может восприниматься как немецкая, хотя в действительности она украинская. Олефер (более распространенный вариант – Олефир) – это просторечное сокращенное имя от греческого имени Елевферий. Фамилия Олефер (Олефир) распространена среди украинцев, а также среди поляков – выходцев с Украины. Прототипом Зеймана также мог быть комиссар 20-го Финляндского драгунского полка, носивший немецкую фамилию Блюм.
Новый Фауст, генерал-майор Растягин, имеет двух вероятных прототипов. Первый и основной прототип – это генерал-майор Евгений Петрович Карцов (1861–1917), командовавший сражавшейся под Ригой 4-й Сибирской стрелковой дивизией с 11 ноября 1915 года и вплоть до своей трагической гибели 24 апреля 1917 года. 15 августа 1916 года он был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени «за то, что со 2-го по 7-е сентября 1915 года, когда немцы, прорвав расположение наших войск, подошли к Молодечно – важному железнодорожному узлу и уже обстреливали его артиллерийским и ружейным огнём, генерал-майор Карцов, приняв командование всеми частями, подходившими к Молодечно, быстро выработал план обороны и, благодаря своевременно принятым мерам, отбил все атаки противника и, перейдя в наступление, обеспечил прочное удержание за собой важного железнодорожного узла – ст. Молодечно». Согласно распространенной версии Карцов погиб в июне 1917 года. В мемуарах бывшего командующего 1-й Латышской стрелковой бригады Карла Гоппера утверждается, что «генерал Карцов был убит в июне 1917 года недалеко от Олаине. Его труп с простреленной головой был найден у железнодорожной насыпи в 100 шагах от штаба дивизии. Убийцы найдены не были». Вероятно, Тихонов следовал именно этой версии, только заставил своего героя застрелиться самому. В действительности Карцов погиб не в июне, а в апреле, и не от пули, а от холодного оружия. Вот как были описаны обстоятельства его смерти в телеграмме-рапорте командира 2-го Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта Н.С. Триковского: «Военному Министру, Верховному Главнокомандующему, Главкосев и Командарм 12.
В 2 часа 24 апреля командующий 4-й Сибирской стрелковой дивизией генерал-майор Карцов был найден чинами комендантской роты дивизии тяжело израненным на болоте в районе Олайского лесничества и школы и по доставлении в приданный дивизии санитарный отряд скончался. Оказалось, что в 23 часа 40 минут генерал-майор Карцов пошел провожать посетивших его помощника, начальника 17-го передового отряда Красного Креста, и женщину, зубного врача, и возвращался один обратно по полотну железной дороги. Около 24 часов 30 минут подвергся нападению неизвестных злоумышленников, затащивших его в болото, где ему и нанесены были многочисленные смертельные раны – очевидно, финским ножом. Следствие производится: предполагается убийство с целью грабежа. В районе Олайского лесничества расположено очень много разных учреждений, как то: дружин рабочих, железнодорожных частей, санитарных учреждений и т. п. Подозревать организованное убийство по политическим побуждениям нет пока никаких оснований, тем более что убийство генерала Карцова совершено во время случайной его прогулки. Во временное командование дивизией и боевым участком вступил начальник штаба дивизии генерал-майор Соколов. Комкор 2 Сиб. Триковский». Е.П. Карцов был захоронен в Киеве 5 мая 1917 года, посмертно ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Второй вероятный прототип Растягина – это генерал-майор Василий Александрович Круглевский (1866–1919?), командовавший 3-й Сибирской стрелковой дивизией с 6 апреля 1917 года и вплоть до ее расформирования в начале 1918 года. Его судьба после Октябрьской революции не до конца прояснена. По одной из версий В.А. Круглевский был расстрелян большевиками в 1919 году. Василий Александрович был героем войны. В феврале 1915 года он получил тяжелое ранение в перестрелке с немцами и потерял левую руку. 30 января 1915 года Круглевский был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени «за то, что с отличным мужеством руководил блестящими действиями полка в боях Люблинской операции, с 20 авг. по 2 сент. 1914 г., особенно в бою у Кщенова, когда ударом во фланг атакующего противника вывел из тяжёлого положения части Гренадерского корпуса у Лысой Горы и в бою 24–27 августа 1914 г., под Зарашевым и Уршулином, произведя под сильным огнём личную разведку, во главе бригады с дивизионом артиллерии, с боя овладел целым рядом окопов и тем сильно способствовал общему успеху». Судя по этим фактам, Василий Александрович, как и Растягин, был храбрым командиром и нередко находился вместе с солдатами в передовых рядах.
Есть в «Старателях» и свой доктор Вагнер. Это командир корпуса генерал-лейтенант Седлецкий, который благодаря тому, что ладит с комитетами, и, как и персонаж Гёте, хорошо умеет произносить речи, в финале повести становится командующим Особой армией. Характерно, что Особая армия названа так только для того, чтобы не называть ее 13-й, какой она должна была бы быть по порядку, так как к моменту ее формирования в 1916 году уже существовало 12 русских армий. Как известно, 13 – это число дьявола, и Тихонов неслучайно вручает ее командование тому, кто пользуется покровительством Мефистофеля. Один из прототипов Седлецкого легко высчитывается. Это генерал от инфантерии Станислав Феликсович Стельницкий (1854–1924), который в 1915–1917 годах командовал 39-м армейским корпусом, который, правда, входил в состав Юго-Западного, а не Северного фронта. 14/27 сентября 1917 года он принял командование Особой армией Юго-Западного выступления. Его назначили после провала выступления генерала Л.Г. Корнилова, поскольку он был в хороших отношениях с фронтовым и армейским комитетами. В Гражданскую войну Стельницкий служил в армии адмирала Колчака, а впоследствии репатриировался в Польшу. Он покончил с собой в Белостоке 1 января 1924 года, предварительно застрелив свою молодую жену и ее любовника.
Другим возможным прототипом генерала Седлецкого мог послужить генерал-лейтенант Василий Федорович Новицкий (1869–1929), который командовал 2-м Сибирским армейским корпусом с 17 июля 1917 года, а в ноябре 1917 года в течение 15 дней командовал 12-й армией. С 1918 года В.Ф. Новицкий служил в РККА на преподавательских должностях. Также прототипом Седлецкого мог послужить генерал-лейтенант Николай Семенович Триковский (1864–1926), командовавший 2-м Сибирским армейским корпусом с 6 апреля по 17 июля 1917 года, как раз тогда, когда был убит начальник входившей в корпус 3-й Сибирской стрелковой дивизии Е.П. Карцов. С 1918 года Триковский служил в РККА. Также нельзя исключить, что одним из прототипов генерала Седлецкого был генерал от инфантерии Федор Николаевич Васильев (1858–1923), командовавший 6-м Сибирским армейским корпусом с 26 сентября 1914 года по 9 сентября 1917 года, т. е. тогда, когда расформировывался 10-й Сибирский стрелковый полк. С 1918 года он также служил в РККА.
В роли гетевского Студента выступает искосолец Курганов, инициатор расправы над мятежными сибирскими стрелками. Его вероятным прототипом является комиссар 12-й армии Минц, инициатор расформирования 10-го Сибирского стрелкового полка. К сожалению, до сих пор не выяснено как имя и отчество Минца, так и его партийная принадлежность. В разных источниках его называют то меньшевиком, то эсером. Но вполне возможно, что на самом деле Минц был бундовцем, которых было немало в составе Искосола и которые в тот момент занимали оборонческие позиции. Не исключено, что комиссаром 12-й армии был Исаак Израилевич Минц (1896–1991), известный советский историк, автор многотомной «История Великого Октября», академик АН СССР (1956). Он считался членом КПСС с апреля 1917 года, но, скорее всего, тогда он вступил не в РСДРП(б), а в Бунд. В 1918–1921 годы различные фракции бундовцев были приняты в ВКП(б), и партийный стаж у их членов исчислялся с момента вступления в Бунд. Год рождения И.И. Минца мы знаем только с его слов, в действительности он мог быть на год или два старше. С 21 марта 1919 года Исаак Израилевич был комиссаром 2-й Украинской советской дивизии Красной Армии, а затем – 46-й стрелковой дивизии, в которую была переформирована 2-я Украинская советская дивизия. В 1920–1921 годах И.И. Минц являлся комиссаром корпуса Червонного казачества. Исаак Израилевич никогда не писал, что в 1917 году был комиссаром 12-й армии. Но в советское время этот факт мог его только скомпрометировать. Ведь вплоть до Октябрьской революции и даже несколько дней после нее Искосол занимал оборонческую и антибольшевистскую позицию. Установление личности комиссара 12-й армии Минца требует дальнейших исследований.
7 марта 1942 года Тихонов и И.И. Минц впервые встретились в советское время. Согласно дневнику Минца познакомил их С.Я. Маршак: «Николай Тихонов остановился в гостинице “Москва”, № 735. Седой, но с молодым лицом. Резкие черты. Похож на рисунок Гойи. Влюбленно рассказывал о Ленинграде. Говорил, как жители переносят все лишения, сознавая все значение событий. Кажется, никто бы не удивился, если бы увидел на улицах города товарища Кирова, – так все здесь героично». Если И.И. Минц действительно был комиссаром 12-й армии, он вряд ли мог узнать Тихонова – одного из многих тысяч солдат и офицеров, которых он встречал на митингах. Сам Минц за 25 лет наверняка сильно изменился. Но Тихонов все же мог узнать его, особенно если помнил фамилию комиссара. Однако Николай Семенович никак не мог признаться в том, что узнал Исаака Израилевича, так как это напомнило бы о фактах биографии, которые они тщательно скрывали – участие в разоружении взбунтовавшегося полка.
Тихонов подчеркивает как молодость Курганова (ему 23 года), так и его ораторские способности. Сохранившиеся доклады комиссара 12-й армии Минца очень напоминают речь Курганова. Например, 2 июля 1917 года он докладывал военному министру: «Настроение в частях неустойчивое. Артиллерийские части и кавалерия к современным событиям относятся вполне сознательно, и за все время пребывания моего в армии не было ни одного случая отказа этих частей от выполнения боевых приказаний командного состава. Бывают случаи, и даже нередкие, конфликтов между комитетами и командирами на почве взаимного непонимания прав и обязанностей командного состава и комитетов по вопросам внутреннего распорядка, но в вопросах боевых конфликтов не происходило.
Что касается пехотных частей, то в последнее время возникают частые недоразумения на почве исполнения боевых приказов: то один полк отказывается выступить из резерва на передовые линии, то дивизия требует вне очереди смены, мотивируя усталостью, то наотрез части отказываются от занятий, боевой подготовки, и постоянно назревают непредвиденные случаи, которые приводят к самым острым выступлениям частей. Много такому шаткому положению пехотных частей способствует: во-первых, в значительной степени непонимание солдатами текущего момента, с другой стороны, бессовестная агитация безответственных лиц, прикрывающихся лозунгами большевизма, который для солдат сводится к определенным положениям: кончать войну, не надо наступления, свержение буржуазного правительства. Эти идеи распространяются в большом количестве “Окопной Правдой”, за последнее время принимающей вид погромного листка, латышской газетой “Цина” и целым рядом, несомненно, провокаторов, которых в Риге большое количество и с которыми приходится постоянно бороться. При этом докладе прилагаю несколько номеров “Окопной Правды”, из которой ясно, чего добивается газета; она, играя на темных инстинктах усталой массы, жаждущей мира, вносит огромную дезорганизацию в пехотных частях нашей армии. (Тихонов, как видно из повести, к большевистской “Окопной правде” относился крайне негативно – как к орудию разложения армии. – Б. С.)
Конечно, я далек от мысли, чтобы приписывать известную степень дезорганизации армии исключительно агитации недобросовестных лиц, но лозунги, бросаемые ими, падают на благодатную почву и дают обильные всходы. В связи с наступлением на Южном фронте в частях поднимаются остро вопросы, связанные с наступлением, и этот вопрос болезненно разбирается на полковых митингах. Массы солдатские чувствуют, что волна наступления должна дойти до XII армии, и заранее стараются так или иначе отнестись к ней. Некоторые части относятся вполне спокойно к будущему наступлению, но большинство пехотных частей с большой тревогой, чему много способствует Рига, Совет Рижских Рабочих Депутатов, Центральный Комитет Латышской соц. – демократической партии – организации, усвоившие течение большевистское. Эти организации, выставляя принцип как будто идейной борьбы с своими противниками, и в печати и на собраниях постоянно подчеркивают свое отрицательное отношение к наступлению, Временному Правительству, выдвигая мысль, что наступление ни к чему хорошему не поведет, одним словом, пускают в ход тот же арсенал доводов, который пускается в Петрограде по отношению к гарнизону Петроградскому. Установлено, что часть, побывавшая в резерве некоторое время близко к Риге, немедленно меняет свою физиономию, потому что, не успев расположиться на отдых, сразу являются агитаторы, которые всякими правдами и неправдами стараются привить колеблющейся и несознательной солдатской массе элементы разложения. Искосол принимает все меры борьбы с разными элементами, проникающими в армии, постоянно отправляются в части члены Искосола, но в Исполнительном комитете нет достаточного количества интеллигентных боевых сил, которые могли бы успешно бороться с разложением в частях».
Прототипом командира драгунского полка полковника Янычарова послужил командир 20-го Финляндского драгунского полка полковник князь Владимир Николаевич Гагарин (1877–1948). 1 июля 1917 года в ЖВД 20-го Финляндского драгунского полка с 1 июля по 31 августа 1917 года записано: «Полк принят во всем и на законном основании полковником князем Гагариным» (Российский Государственный Военно-исторический архив, фонд № 3572, 20-й драгунский Финляндский полк, опись 1. Дело 408. Л. 1). Полк в это время находился в корпусном резерве в Майорингофе. Гагарин командовал Финляндским драгунским полком вплоть до его расформирования 21 апреля 1918 года, причем с декабря 1917 года он являлся выборным командиром полка. Тихонов в автобиографических заметках описал свою беседу с В.Н. Гагариным, которая, по всей вероятности, произошла вскоре после назначения князя командиром Финляндского полка: «Встретил 12 ночью… кн. Гагарина. Г. сначала увидел Степанова, подошел к нему и спрашивает, как дела?… Потом перешел на меня… И наконец спросил фамилию. Я сказал. «Как, – заулыбался он – Тихонов?! Дайте-ка вас ближе рассмотреть. Про вас здесь чудеса рассказывали». – «Какого рода, г-н полковник?» – «Да что вы… одной рукой одно пишете, другой другое, а еще о третьем разговариваете. Вы пишете?» «Пишу…». «А я вас воображал старше себя, с усами, бородой, а вы, оказывается, молодой, жизнерадостный…»
Этот эпизод можно расценить, что Тихонов носил звание подпрапорщика, которое обычно носили вахмистры с большим сроком службы, почему Гагарин, которому в 1917 году было 40 лет, мог решить, что Тихонов – человек примерно одних с ним лет. Но в этом случае Тихонов должен был быть пусть и не одного возраста с князем Гагариным, но родиться гораздо раньше 1896 года. Впрочем, с тем же успехом можно допустить, что Тихонов тогда уже был прапорщиком, и князь решил, что он был призван из запаса, а потому ему уже под 40.
В дальнейшем В.Н. Гагарин присоединился к Вооруженным силам Юга России, где с октября 1919 года был командиром Сводно-конного полка 1-й Кавказской конной дивизии. В начале 1920 года он вместе с полком отступил в Грузию, откуда эмигрировал в Париж.
Прототипом начальника кавалерийской дивизии генерал-майора Исакова послужил начальник 17-й кавалерийской дивизии генерал-майор Петр Павлович Каньшин (1868 – после 1922). Он занимал этот пост с 22 января по 27 августа 1917 года. 19 ноября 1917 года П.П. Каньшин был произведен в генерал-лейтенанты. В 1918–1922 годах он служил в РККА на штабных должностях, а после выхода в отставку преподавал в Военной академии имени Фрунзе. Возможно, генерал Каньшин действительно носил прозвище «Ишак» из-за наличия буквы «ш» в его фамилии. К тому же прочитанная наоборот без последней буквы она созвучна слову «ишак».
В «Старателях», написанных уже после заключения Брестского мира, Тихонов продолжает занимать оборонческую позицию и крайне негативно относиться к деятельности войсковых комитетов, которая способствовала разложению армии, так и к тем военачальникам, вроде генерал-лейтенанта Седлецкого, в карьерных целях стремящихся ладить с комитетами. Он также негативно относится к социалистическим идеям, которые проповедуют Курганов и Камба, что подчеркивается печальной судьбой Камбы, расстрелянного большевиками в Одессе. В то же время он с симпатией изображает офицеров, придерживающихся монархических взглядов и пользующихся любовью солдат, вроде генерала Растягина и подполковника-артиллериста Фугастова. Фамилия последнего не только напоминает о его профессии, но и прочитывается как анаграмма имени Фауст. Можно предположить, что тогда и сам Тихонов был монархистом.
Дальнейшую судьбу Тихонова в годы Гражданской войны помогает понять его стихотворение «Атака под Роденпойсом». Там описана кавалерийская атака под мызой Роденпойс, в которой поэт принимал участие. При публикации Тихонов датировал стихотворение 1916 или 1917 годом. Также в автобиографиях он относил эту атаку к периоду Первой мировой войны. Действительно, 20-й Финляндский драгунский полк участвовал в боях у Роденпойса 21 и 22 августа 1917 года (в 1916 году боев в районе Роденпойса не было). 21 августа, согласно записи в его Журнале военных действий, «в 1 час пришло приказание дивизии двигаться на мызу Роденпойс через Роткальн (Рекстинь). В 1 ч. 20 мин. выступили: в авангарде полк ОКШ и 10-й Рыпинский – наш полк в главных силах, за ним стрелковый полк дивизии. Ночь тихая, лунная. Так как Вальденроде оказался занятым немцами, пришлось обойти его, и дивизия прибыла в Роденпойс в 10 час. 21 августа, где и вступила в распоряжение командира 43-го корпуса. К 12 час. подошли части 5 кав. дивизии. Ввиду небоеспособности частей пехоты, некоторые части которой без приказания покидая окопы, ставили в отчаянное положение более мужественные части, открывая им фланги, кавалерийским частям приказано удерживать по возможности мызу Роденпойс для прикрытия «отхода частей 43-го корпуса на Хинценберг». От 2-го эскадрона выставлены заставы на дороги к Хинценбергу и Роденпойсу. От полка ОКШ высланы разъезды. 1-й, 3-й и 4-й эскадроны в резерве дивизии в мызе Роденпойс. В 15 часов получено приказание 1-му, 3-му и 4-му эскадронам при пулеметной команде выступить на поддержку 93-му Сиб. Стрелкового полка. При выходе полка начался усиленный обстрел дорог немецкой артиллерией. Выслан разъезд 3-го эскадрона под командой поручика Розанова для определения положения и сил неприятеля с левого фланга. При самом выходе встретились с уже отходящими частями 93-го полка. Полковой адъютант поручик Суна послан к начальнику дивизии, чтобы узнать, меняется ли задача ввиду отхода части 93-го полка. В 15 ч. 15 мин. обстрел усиливается – снаряды ложатся на самой дороге. Начдив прислал приказание занять участок 93-го полка с оставшимися его частями и нашими эскадронами, 3-й и 4-й эскадроны продвигаются вперед по дороге по одному. 10 мин. спустя следует штаб полка с 1-м эскадроном. В лесу, у самой передовой линии, полк спешивается. На передовой линии осталось лишь человек 40 с командиром батальона, который заявляет, что все остальные бежали, и что он не может ручаться за стойкость оставшихся, т. к. боевые приказы крайне скверно исполняются. При участии полковника Малыгина, поручика Суна, корнета барона Гревеница и ефрейтора Овчинникова часть бродивших по лесу стрелков собраны и рассыпаны в цепь на бугру. Ввиду присланного приказания цепь отведена полковником Малыгиным назад и пехота отпущена и заменена драгунами. Немецкая артиллерия бьет по бегущим цепям других частей пехоты, все приближая огонь к мызе Роденпойс, атакуя ее одновременно пехотными колоннами. Связь (тел.) с дивизией порвана. Послан разъезд 1 эскадрона под командой корнета Зелинского выяснить, свободен ли проход через ручей. В 16 часов послан в мызу Роденпойс поручик Алексеев, который, догнав начдив[а] на Хинценбергской дороге, получил приказание полку отходить, но не мог прорваться обратно через уже занятую мызу Роденпойс и присоединился вследствие этого к Штабу дивизии.
Ввиду наступления превосходящих сил немецкой пехоты с двух сторон, и занятия немцами мызы Роденпойс с третьей, командир полка приказал отходить на мызу Аллаж, куда было приказано базироваться в случае невозможности присоединиться к дивизии. От корнета Зелинского получено донесение, что путь через Валку свободен. Перейдя вброд, полк выдвинулся на Хинценбергскую лесную дорогу. Выяснено, что через мызу Роденпойс пройти нельзя, и полк двинулся на северо-восток. Немцы перенесли артиллерийский огонь на лес, через который уже прошла колонна.
Для прикрытия отхода отправлен пулемет со штабс-ротмистром Волковицким и взвод прапорщика фон Фельдман (3 эскадрона). Как стало известно впоследствии, последние не смогли присоединиться к полку и, прорвавшись под сильным ружейным и пулеметным огнем у мызы Роденпойс, присоединились к штабу дивизии. Кроме того, отсутствуют: разъезд поручика Розанова, 3 взвода 2 эскадрона, стоявшие на заставах (один взвод присоединился) и разъезд корнета Зелинского. Дойдя к 17 час. 30 м. до перекрестка дорог на Хинценберг и на Аллаж (у мызы Плануп), наткнулись на отходящую колонну обозов: при нашем появлении среди обозов поднялась неописуемая паника: раздались крики «Кавалерия», и все это понеслось вскачь по дороге. Командир полка приказал спешиться в резервной колонне лицом к неприятелю, и при деятельном участии офицеров и драгун был восстановлен порядок среди обозов. Выставлены 2 поста: от 1-го эскадрона вперед на дорогу к церкви Св. Николая за мостик, и от 3-го эскадрона на дорогу на Роденпойс (откуда пришел полк). Начальник штаба 186-й дивизии подошел к командиру полка и попросил не уходить, а пропустить дивизию, которая, несмотря на 2-дневный отдых, абсолютно небоеспособна, и единственное, что от нее можно требовать, это отход без паники. Присоединился разъезд корнета Зелинского. Полк, пропустив 186 дивизию, в 22 ч. 30 м. продолжает отход на Аллаж, вместе с присоединившимися 2-мя эскадронами О.К.Ш., которые пошли в голове. У Корчмы Булле части полка остановились на ночлег (в 23 ч. 30 м.). За бой 21 августа у мызы Роденпойс ранены драгуны 2 эскадрона Иван Шнейдер, Никитин, Иван Виллевальд, у церкви Св. Николая 3 эскадрона Семен Шиков, Иван Агафонов.
22 августа в 13 час. Командир полка вызван в мызу Аллаж к генералу Болдыреву (командиру 43-го корпуса) и получил от него следующее приказание: «Отряду полковника кн. Гагарина в составе: 2 1/2 эскадронов нашего полка при 1 пулемете Максима и 3-х ружейных пулеметах, 2-х эскадронов полка О.К.Ш. занять перекресток дорог на Хинценберг и Аллаж у мызы Плануп и держать его до приказания; отряду войти под общее командование командира 1-й бригады 5-й кавалерийской дивизии генерал-майора Коленкина с эскадроном Каргопольского драгунского полка. Подойдя около 6 час. к мызе Плануп, командир полка приказал занять западную оконечность ее 1-м эскадроном полка О.К.Ш. и 4 эскадроном 20-го драгунского Финляндского полка, а южную оконечность 1-му эскадрону и по взводу 2-го и 3-го эскадрона нашего полка. В резерве генерала Коленкина был эскадрон полка О.К.Ш. и эскадрон 5-го драгунского Каргопольского полка. В скорости по занятии позиции и высылке разведки противник предпринял наступление: сперва с юга, а по отбитии этого наступления огнем, с юго-запада, ведя все время сильный ружейный и пулеметный огонь. По отбитии наступления, убедившись в стойкости наших эскадронов, в 10 час. противник начал подготовку артиллерийским огнем, сперва одной легкой батареей, а затем в подготовке приняли участие еще 2 тяжелые батареи, стрелявшие одна с юга, а другая с юго-запада. К 12 час. огонь батарей превратился в ураганный: от 11 час. 48 м. до 12 час. было выпущено 132 снаряда, а всего около 500 снарядов. Снаряды рвались сзади цепей и в районе коноводов, которых пришлось отвести на 1/4 версты назад. В 12 час. 15 мин. противник повел наступление, которое снова было отбито, после чего артиллерия продолжала поддерживать редкий огонь. Около 14 час. генерал-майор Коленкин приказал полку очистить мызу Плануп, что и было исполнено, отходя поэскадронно – 4-й эскадрон был в арьергарде. За этот бой контужены: поручик Суна и корнет Крылов, ранены: драгун Яков Тушин (4-й эскадрон), младший унтер-офицер Петров (4-й эскадрон), драгун Василий Чипалов. Контужены драгуны пулеметной команды: Иван Чирков, Василий Филиппов и Богачев.
Дойдя до Корчмы, отряд по приказу генерала Коленкина остановился. Задача была выполнена и войскам корпуса удалось отойти к Хинценбергу. В 15 час. прибыл командир 1-й бригады полковник Родзянко, чтобы вести сводный полк на присоединение к дивизии. В 15 час. 20 м. части полка в составе сводного с 2-мя школьными эскадронами полка выступили по направлению на мызу Аллаж (в Корчме к полку присоединился поручик Рейтель). У мельницы, что к востоку от мызы Аллаж, полк в 16 час. остановился для обеда и отдыха. В 17 час. упомянутые части бригады, под командой полковника Родзянко по направлению на Зегевальд. По жребию были оставлены 2 эскадрона полка О.К.Ш., один в мызе Пулламдорф, другой в фольварке Лунь-Клинце. В мызе Аллаж наблюдательный пост от 3-го эскадрона под командой унтер-офицера. В фольварках Цельн и Грундуль оставлены наблюдательные посты 2-го эскадрона, под командой поручика Рейтель (взвод). Задача постов и эскадронов – оставаться для наблюдения за противником до утра, если не будут до указанного времени сбиты превосходными силами. В 19 час. полк прибыл в район Бикше – Спитали, где расположился на ночлег. В 21 час. к полку присоединились отделившиеся у Роденпойса части 2-го и 3-го эскадрона и пулеметной команды, действовавшие 22 августа в районе ст. Хинценберг, где они оказывали существенную пользу при выводе подвижного состава» (Российский государственный военно-исторический архив, фонд № 3572, 20-й драгунский Финляндский полк, опись 1. Дело 409, л. 4—15, https: //gwar.mil.ru/documents/view/? id=51520314).
Легко убедиться, что 21–22 августа 1917 года ни в какие конные атаки под Роденпойсом финляндские драгуны не ходили и никого не рубили. Такие атаки были невозможны из-за плотного огня германской артиллерии. Да и размах боев был невелик, о чем свидетельствуют сравнительно небольшие потери финляндских драгун за два дня боев: 11 раненых и 2 контуженных. Потерь же в лошадях вообще не было, что тоже говорит об отсутствии конных атак. Тихонов же, если он возглавлял команду связи, в этих боях, скорее всего, не участвовал, так как находился при штабе полка.
Зато конная атака под Роденпойсом действительно была, только не в августе 1917-го, а в мае 1919 года. Тогда, 24 мая, белогвардейский отряд под командованием ротмистра (впоследствии – полковника) светлейшего князя Анатолия Павлович Ливена (1872–1937) двигался в походной колонне и подвергся неожиданному нападению со стороны красных. Эскадрон отряда, двигавшийся в конном строю, попытался атаковать красных, но вынужден был отступить. Вот как описал этот бой штабс-капитан фон Зауэр, старший офицер батареи Ливеновского отряда: «Переправившись на пароме у Мюльграбена, около 3 часов дня отряд захватил заставу красных, указавшую на нахождение вправо от нас батальона коммунистов и отряда коммунисток, а впереди нас двух красных рот… Отряд продолжал движение. Батарея шла все время рекою непосредственно за эскадроном. Около 4 часов вечера в лесу, в 1 км от «Рикуль» (3 км к северу от станции Роденпойс), отряд наткнулся на засаду красных, состоящую из 15 коммунисток и 250 стрелков при нескольких пулеметах.
Встреча произошла в густом строевом лесу, на гати, обнесенной глубокими канавами. Красные открыли неожиданно по нашей колонне сильный пулеметный и ружейный огонь с близкой дистанции. Конница, неся потери, смешалась и отошла. Оба орудия, снявшись с передков и стоя друг другу в затылок, несмотря на невозможные для артиллерийской стрельбы условия и убийственный огонь противника, открыли по нему сильный огонь. Многие снаряды, задевая за толстые деревья, рвались у самых орудий или у нашей цепи. Противник начал нас обходить и справа и слева. Батарейный пулемет, выдвинутый вправо и вперед, своим огнем поддерживал нашу жидкую цепь (30 шашек, 10 офицеров, 20 артиллеристов). Огонь батарейного пулемета ликвидировал обход справа. Обход слева был ликвидирован огнем орудий. Орудия были спешно выдвинуты на опушку леса. Красные, не зная наших сил, спешно переправились через Аа лифляндскую и сожгли за собой мост. С наступлением темноты подошла 1-я пулеметная рота, и отряд пошел на станцию. Со станции открыл огонь бронепоезд противника, на наши сигнальные ракеты никто не отвечал, люди крайне устали, осталось лишь 10 шрапнелей. Отряд отошел на 1 км и занял позицию у имения Холлерсгоф. Батарея потеряла 30 процентов своего состава. Ранены: поручик Недзведский, подпоручик Бергман, Кергалв, Кононов. Убиты: добровольцы Шульц, Цукурс, Цирульс. Убито 6 лошадей и ранено 7. На позиции батареи тяжело ранен начальник отряда светлейший князь Ливен и его адъютант Зейберлих и убит командир эскадрона ротмистр Родзевич».
Значительные потери в людях и особенно в лошадях доказывают, что в начале боя эскадрону пришлось действовать в конном строю, и лишь потом он вынужден был спешиться. Очевидно, Тихонов был в рядах ливенцев. В июле 1919 года отряд Ливена перешел в белую Северо-Западную армию Н.Н. Юденича, где стал основой 5-й Ливенской дивизии, которую возглавил произведенный в полковники А.П. Ливен. В сборнике мемуаров ветеранов ливенского отряда «Памятка ливенца», опубликованном в Риге в 1929 году, на фотографии «Сторожевой пост ливенской дивизии, расположенный под дер. Килли» (эта деревня ныне относится к Кингисеппскому району Ленинградской области), сделанной в августе 1919 года, в одном из офицеров можно узнать Тихонова. В ливенский отряд из Петрограда Тихонов мог попасть только следующим образом. По всей вероятности, Николай Семенович служил в Лужском партизанском (1-м Советском) полку Красной Армии (шефом полка считался сам председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий, запечатленный Тихоновым в «Балладе и синем пакете» в образе человека во френче) под командованием С.Н. Булак-Балаховича. Последнему было по пути с большевиками только до тех пор, пока сохранялась германская угроза. В начале ноября 1918 года, когда крах Германии был уже очевиден, большая часть полка во главе с Булак-Балаховичем перешла через демаркационную линию в Псков, где начали формироваться белогвардейские отряды. Однако часть подчиненных Балаховича, преимущественно настроенных монархически, предпочла перебраться в Либаву (Лиепаю), где в январе 1919 года начал формировать свой отряд А.П. Ливен. Вероятно, среди них был и Тихонов. Для этих офицеров Булак-Балахович был слишком левым, поскольку выступал за то, чтобы в освобожденной от большевиков России были сохранены демократические завоевания Февральской революции. К периоду пребывания Тихонова в армии Юденича относится самое знаменитое его произведение – «Баллада о гвоздях». Она посвящена атаке союзников Юденича британских моряков, совершенной на рейд Кронштадта на торпедных катерах в ночь с 17 на 18 августа 1919 года. Почти все участники атаки погибли или попали в плен, но им удалось тяжело повредить линкор «Андрей Первозванный», который так и не был восстановлен. Торпедные катера при атаке на Кронштадт шли на восток, почему у Тихонова капитан командует: «С якоря в восемь. Курс – ост». После разгрома Северо-Западной армии Юденича под Петроградом Николай Семенович, вероятно, отступил с ее остатками в Эстонию, а затем через Латвию в Польшу. Оттуда некоторые из ливенцев через Германию и Францию смогли перебраться в Русскую армию П.Н. Врангеля в Крыму. Судя потому, что в стихотворении «Перекоп» Тихонов дает не только красный, но и белый взгляд на последние бои в Крыму, он тоже мог служить в армии Врангеля. Когда и при каких обстоятельствах Тихонов попал от белых красным, мы уже вряд ли когда-нибудь установим. Но, во всяком случае, в конце 1920 года он уже был в Петрограде. Возможно, он не смог эвакуироваться с Русской армией из-за того, что заболел тифом или какой-то другой тяжелой инфекцией. Не исключено, что в дальнейшем Тихонову удалось выдать себя за захваченного врангелевцами в плен красноармейца и скрыть свое белогвардейское прошлое, которое ему потом пришлось скрывать всю оставшуюся жизнь, вплоть до смерти, последовавшей в Москве 8 февраля 1979 года. Вероятно, поэтому и в партию не стал вступать.
Вершинными достижениями тихоновской поэзии так и остались ранние сборники «Орда» и «Брага», отразившие опыт Первой мировой войны, а также службу в белых армиях в годы Гражданской войны. А «Чудо» и «Старатели» по праву числятся среди лучшей прозы Тихонова. В 20-е годы он писал много хороших стихов, а в 30-е годы, по мере усиления цензурного гнета, в том числе в отношении художественной формы, – уже меньше, хотя и тогда случались шедевры, вроде стихотворения «На Верденских холмах», где поэт вновь обратился к теме Первой мировой войны. Новый творческий подъем Тихонов пережил в годы Великой Отечественной войны. Почти всю блокаду он провел в Ленинграде, написал прекрасные поэмы «Киров с нами» и «Слово о 28-ми гвардейцах» и один из лучших своих прозаических циклов «Ленинградские рассказы». Но номенклатурная карьера не самым лучшим образом отразилась на тихоновском таланте. После того как в 1949 году Тихонов стал бессменным председателем Советского комитета защиты мира и фактически стал выполнять ту же функцию, которую раньше выполнял Горький, мобилизуя деятелей мировой культуры на борьбу за мир, хорошие стихи стали выходить из-под его пера все реже и реже. Хотя хорошую прозу, в том числе мемуарную, он писал до самого конца. Оскудение таланта не могло быть компенсировано тем, что Тихонов стал одним из самых титулованных советских писателей – Героем Социалистического Труда, лауреатом трёх Сталинских премий первой степени, Ленинской премии и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», народным поэтом Узбекистана и Азербайджана.
В данном сборнике мы собрали никогда ранее не переиздававшиеся стихи и прозу Тихонова, опубликованные в 1918 году в петроградском журнале «Нива». Также помещены лучшие стихотворения Тихонова о Первой мировой и Гражданской войне, в том числе отражающие его пребывание в рядах белых армий. Кроме того, в сборник включены рассказы цикла «Военные кони», посвященные Первой мировой войне, и одни из лучших среднеазиатских рассказов Тихонова «Халиф» и «Бирюзовый полковник», предвосхищающий некоторые открытия Андрея Платонова. В сборник также вошли лучшие тихоновские поэмы и цикл «Ленинградские рассказы».
Б.В. Соколов, доктор филологических наук, кандидат исторических наук