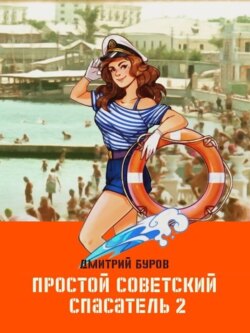Читать книгу Простой советский спасатель 2 - - Страница 4
Глава 4
ОглавлениеДо общаги я добрался быстро. Сбегал в душ и завалился спать, точнее, попытался. Но бумага в целлофане жгла мозг, требуя найти ответ на вопрос. Вот только где его искать? Снова в библиотеке? Насколько я помню, в нашей Центральной библиотеке хранится первый номер самого старого местного печатного издания, но ничего, что бы проливало свет на происхождение.
Я пытался вспомнить, что еще знаю из будущего про энские катакомбы, но в голову лезла всякая чушь. Якобы перед каким-нибудь значимым происшествием, природным или общественным (наводнение или очередная революция, война, смена власти), в подземных переходах объявляется сам князь Воронцов – основатель нашего города. В одной руке у князя якобы факел, который светит, но не чадит. А в другой – колокольчик, каким аристократы вызывали слуг.
Обходит, значит, покойный Михаил Семенович город под землей по выстроенным переходам и там, где случится беда, останавливается и трясет в колокольчик. В котором месте князь в кирпичную кладку ткнет, именно там, по словам старожилов, непременно случится большой пожар.
На мой вопрос, почему под землей-то указывает на места трагедий, никто из рассказчиков так ни разу и не ответил. Эх, взял бы да прошел по городу, потыкал факелом в пожароопасных местах. Глядишь, облегчил бы жизнь всем спасательным службам Энска.
Но начало ее тянется еще с дореволюционных лет. Когда князь умирал на той стороне моря, в своем одесском имении. Мол, впервые князя видели, стоящего в порту на моле возле маяка, сразу после смерти. И неважно, что умер Воронцов в Одессе и похоронен там же, в Кафедральном соборе, фантазеров это не останавливало. И правда, кто ж призраку-то помешает вернуться через море в любимый городок? Никто. На то он и призрак.
Легенда гласит, что стоял светлейший в порту на краю мола, долго стоял, смотрел на море, а потом повернулся, осенил город крестным знамением и сгинул. И никого из рассказчиков не смущал тот исторический момент, что строить Энский порт начали в тысяча девятьсот третьем году… Видимо, князь предвидел строительство и явился в нужном месте, указав потомкам, где и что строить. Ну да ладно.
В следующий раз князя видели якобы перед наводнением в феврале тысяча восемьсот девяносто второго года. Вроде как за сутки до начала буйства стихии Михаил Семенович прошелся по городу и исчез ровно в том месте, где в моем времени автомобильное кольцо, через которое отдыхающие выезжают, чтобы попасть на Должанскую и Камышеватскую косы. Перед тем как раствориться в воздухе, призрак указал в сторону Камышеватской косы.
В том районе и в самом деле в феврале случилось наводнение. Зацепило, правда, нашу сторону не очень сильно. В основном досталось Темрюкско-Ачуевскому участку. Виновником разгула воды, как обычно, оказался юго-западный ветер, задувший со стороны Ачуевской косы.
В тот день, семнадцатого февраля, Азовское море собрало хорошую дань по всему побережью. Стихия забрала с собой тридцать один рыбный завод, много рогатого скота, больше полусотни лошадей, тридцать человеческих жизней.
Краем бури зацепило и курень Камешеватский казачьего округа (по-современному – станицу Камышеватскую Энского района). Глыбы льда снесли несколько рыболовных заводов.
Нагонная вода – это своего рода визитная карточка нашего приморского края. Когда западный или юго-западный ветер гуляет – жди беды. В море воды, так сказать, прибывает, а потом ветер стихает, и вся водица уходит обратно. Причем весьма стремительным потоком, смывая все на своем пути.
Энские старожилы уверяют: призрак светлейшего князя Воронцова предсказывал наводнение в девятьсот четырнадцатом году, когда уровень воды в Энске достигал трех метров, а жертвами моря стало около трех тысяч человек по всему побережью.
Предупреждал Михаил Семенович и о наводнении в шестьдесят девятом году, когда вся нижняя часть нашего Энска оказалась затопленной. А перед этим юго-западный ветер выгнал воду до такой степени, что на другой берег моря, в сторону Глафировки, можно было дойти пешком.
Может, поэтому, когда ветер резко сменился на западный, который всегда приводит за собой высокую воду, в Энске удалось избежать жертв. Не из-за призрачного князя, конечно, а потому что научились предугадывать поведение моря, когда оно меняет ветреных партнеров.
В эти сказки лично я не верил. Потому что такого рода предсказания всегда появляются после того, как несчастье случилось. Как говорится, все мы задним числом умные, а передним ни черта не замечаем.
Притягивали князя Воронцова за уши и к наводнениям уже в двадцать первом веке. Думаю, привлекут еще не раз. Город наш курортный, места интересные, надо же поддерживать легенды, чтобы вызывать интерес у отдыхающих. Раз уж не удалось сделать подземелья экскурсионным маршрутом. Запретили, мотивировав тем, что кирпичная кладка может обрушиться в любой момент.
Я встал, побродил по комнате, попил воды. Мысли крутились в голове, мешая уснуть. Помаявшись, я все-таки запер двери и достал из тумбочки найденную журналистом схему, припрятанную под тетради с конспектами.
Убрал все со стола, протер его начисто тряпкой и осторожно вытащил из целлофана старинный документ, разукрашенный следами времени. Черт, жалко, лупы нет! А так и не разглядишь, что за звери на втором гербе… На двуглавого я не стал обращать внимания. Что в нем может быть интересного? Обычный символ Российской империи.
Меня интересовал другой, наполовину скрытый бурым пятном. Я низко склонился над столом, пытаясь разглядеть ту часть рисунка, которая не была испачкана кровью.
Сначала я долго пытался понять, что за зверь держит круглый щит внутри самого герба. То ли у художника руки росли из неправильного места, то ли родовых зверей было принято рисовать так, чтоб никто не догадался.
Лично я видел лысую собаку, которая стояла на задних лапах, задрав хвост и отвернув почему-то волосатую голову в сторону от центра картинки. Из пасти у нее торчал заостренный язык, больше похожий на наконечник стрелы.
Я пытался припомнить породы собак, кроме китайской хохлатой, в голову ничего не лезло. Интересно, а на аристократических родовых знаках Российской империи вообще могла оказаться собака? Если рассуждать логически – вряд ли. С одной стороны, хорек знает, что и как оно было на уме у российских дворян, какие традиции учитывались при создании гербовых штук.
Может, какой-нибудь боярин, там, или граф Собакин выбрал своим символом именно пса, чтобы подчеркнуть уникальность своей фамилии. Чем-чем, а вот геральдикой я никогда не увлекался.
С другой стороны, опять-таки, если рассуждать логически и хорошенько покопаться в памяти, не припомню ни одного старинного семейства, связанного с Энском, с собачьей фамилией. Благодаря отцу я многое знал о родном городе, купцах, помогавших его строить, развивать и украшать. Хотя разве у купцов были гербы? Вряд ли.
Если предположить, что такого рода отличия – привилегия дворян, тогда, получается, на бумаге родовой символ какого-то знатного семейства, связанного с Энском. Кроме фамилии князя Воронцова, никого не припомню.
Я завис, перебирая в голове всех известных зверей, более-менее похожих на собак. Интересно, что хочет найти в Красном архиве мой отец? И почему батя никогда не рассказывал мне про эти свои поиски?
Я многое изучал вместе с отцом, став старше. Долгое время бредил сокровищами и приключениями, наверное, как и все мальчишки. У бати про запас всегда было очень много историй, связанных с дворянскими, казачьими, бандитскими и другими легендарными кладами Российской империи. Но отчего-то отец никогда мне не рассказывал ни про Красный архив, ни про то, что существует карта городских подземелий. Скрывал? Или сам не знал?
Черт! А с чего я вообще взял, что это история про клад? Может, там оружие прятали, как в той истории про подвал и фаэтон. Но тогда возникает закономерный вопрос: на фига советским товарищам старинная карта с отмеченными на ней оружейными схронами? Сдать в музей? Продать? Кому можно продать древние пулеметы и винтовки? Коллекционерам?
Стоп, Леха, а если это черные копатели? Им-то все равно, что копать и продавать. Был бы товар, купцы всегда найдутся.
От долгого сидения и разглядывания затекла шея и заболели глаза. Предположения одно хлеще другого измочалили мозг до потери соображения. Я никак не мог уловить мысль, которая трепыхалась где-то на дне сознания. Мысль, явно связанная с кладом и историей Энска. Иначе почему в голове бесконечно вертелась песенка про сундук мертвеца и пятнадцать человек, желающих его выпотрошить? Ассоциации на пустом месте не возникают.
Протерев глаза, размявшись, я решил прогуляться в парк, проветриться и ни о чем не думать. Глядишь, оно все само и устаканится. Спрятал бумагу, переоделся и пошел гулять.
Июльский вечер в Энске – время веселого смеха, музыки, танцев, детских восторженных воплей. В парке всегда многолюдно. Красные и черные от загара курортники в нарядных костюмах и платьях неторопливо дефилируют по аллеям городского парка, стоят в очередях в парковые кассы, чтобы купить билетик на аттракцион. Прогуливаются возле фонтана, наслаждаясь вкусным мороженым и прохладными брызгами.
Детвора носится рядом, по мокрым бортикам, визжа и уворачиваясь от струй воды, которые южный ветерок горстями швыряет в малышню. Слышны испуганные возгласы мамаш, которые одергивают ребятню и велят не бегать по мокрому парапету, чтобы не свалиться в фонтан.
Я брел по парковым аллеям и любовался былым величием одного из старейших кубанских парков. Когда-то здесь была обычная роща, и первые жители Энска называли ее Казенным садом. В тридцатых годах в городе появилась Севастопольская школа морской авиации, начали строить военный городок, изменив планировку западной части Энска. Тогда-то на месте рощи и зародился наш знаменитый парк.
Летчики построили стадион, игровые площадки, беговые дорожки, соорудили ограду вокруг сада. Горожане назвали его Парком училища, когда школа превратилась в Военно-морское Авиационное училище.
Во время Великой Отечественной войны на территории бывшего городского сада базировались воинские части, и парк практически уничтожили. Восстанавливали его всем миром после победы. Здесь же, в городском парке, в сорок девятом году похоронили Ивана Максимовича Поддубного – не побежденного никем русского борца, чемпиона чемпионов.
Я свернул в сторону фонтана, решив прогуляться в музей Поддубного, посмотреть, каким он был. Бабулька на входе выдала мне билетик и впустила в круглый зал, выполненный как арена цирка шапито. Я разглядывал витрины, в которых лежали вещи легендарного борца, и вспоминал историю, которую много раз рассказывал отец.
В годы войны Поддубный остался в Энске, хотя ему предлагали эвакуироваться. Борец заявил, что жить ему осталось недолго и бегать от немецких собак он не видит смысла.
Однажды вечером немецкий патруль встретил на городской улице пожилого гиганта, на груди которого красовался советский орден Трудового Красного Знамени. Фашисты обалдели от такой наглости, но, когда признали в могучем русском Ивана Поддубного, отпустили.
Немецкое командование сделало русскому борцу предложение, от которого многие не смогли бы отказаться: уехать в Германию, чтобы тренировать немецких спортсменов. Но Поддубный сказал категоричное «нет».
И это второй момент, который я никогда не мог понять, но неизменно восхищался. Ни за советский орден на груди, ни за отказ сотрудничать и покидать Советский Союз оккупанты не наказали русского борца. Самое удивительное, немцы настолько восхищались чемпионом, что не просто оставили его в покое, но и нашли ему работу, чтобы спортсмен не умер с голоду.
Так Поддубный стал работать учетчиком очков в бильярдной и по совместительству вышибалой в баре для гитлеровских офицеров и солдат. Отец в лицах рассказывал и показывал, как Поддубный с советским орденом на рубахе выкидывает на улицу пьяных солдат вермахта. И каждый раз я замирал от ужаса: страшные оккупанты непременно должны были расстрелять нашего борца за такое к ним неуважение.
Но абсурдная история в реальной жизни действительно не имела плохого продолжения. Протрезвев, немцы писали восторженные письма родне с рассказами о том, как их одной правой вышвыривает на улицу сам Иван Поддубный.
Самое удивительное, что советская власть, точнее, органы госбезопасности, после войны провели проверку на предмет сотрудничества борца с немецко-фашистскими оккупантами и… оставили пожилого спортсмена в покое. Объявив, что знаменитый борец Родине не изменял, а «коммерция – это просто коммерция».
Я рассматривал старые афиши, письма Поддубного, и вдруг мне в голову пришла мысль: а что, если поискать рисунок, похожий на полускрытый герб со схемы, в энском краеведческом музее? Наверняка же там тоже есть старинные бумаги царских времен. Вдруг да и увижу что-то похожее.
Я уже собрался было рвануть в центр города, где находился музей, но вовремя вспомнил, что в советское время государственные заведения работают четко по часам, с перерывами на обед и закрытием ровно по расписанию. И никто меня в музее ждать не будет и после закрытия не пустит. Ну и ладно, значит, схожу завтра. А сейчас самое время выпить пива и выбросить из головы всю эту древнюю муть.
Сменив музейную прохладу на вечернее южное тепло, я пошел к кассам. Захотелось вспомнить детство и прокатиться на колесе обозрения. Наш парк славился своими аттракционами. Энский завод «Аттракцион» в советское время был монополистом по каруселям.
«Колокольчик», «Юнга», «Солнышко», на них я отрывался в детские годы. Подростком любил «Вихрь», «Орбиту», «Березку». Помню, мечтал быстрее повзрослеть, чтобы разрешили кататься на «Сюрпризе». Это был самый крутой аттракцион в парке. Самый экстремальный, с точки зрения нас, пацанов.
Еще бы! Огромное колесо с отдельными вертикальными кабинками, в которых нужно было стоять, пристегнутыми одним-единственным ремнем. Когда оно крутилось, набирая скорость, поднималось практически вертикально над землей. Ощущения, словно ты космонавт в невесомости! Это ли не кайф! Вот и сейчас я решил вспомнить детство, нырнуть в давно позабытые эмоции.
Решено, сначала «Сюрприз», а потом «Автодром». Давненько я не катался на машинках. Все как-то не с руки, да и не по возрасту вроде.
Возле парковых касс, как обычно, вилась длинная очередь, пищали дети, ворчали нарядные мамы, приводя в сознание капризных оболтусов. Рядом в кафешке играла музыка, курортники наслаждались южными винами и вкусным шашлыком.
Мы с пацанами обзывали его кругленьким: кафетерий был реально круглым по форме. В детстве по осени мы сюда лазили через низкую оградку, когда парк пустел и кафе закрывалось.
Круглая площадка с высоко задранной крышей, если встать в центре, отзывалась эхом. А если по ней бегать по кругу, то от топота раздавался звон. Уж не знаю, почему так. Может, особенности архитектуры. Но осенью это было наше излюбленное место. Самое главное – вовремя заметить сторожа и удрать, чтобы не поймал и уши не надрал, а то и в милицию не отвел.
Я стоял в очереди, с ностальгией разглядывая цены на билеты. Тогда, чтобы накататься вдоволь, хватало рубля. В мое время, чтобы выгулять семью из трех человек, один из которых ребенок, и в полторы тысячи не уложишься. И это без посидеть в кафе после покатушек.
Двадцать копеек «Вихрь», десять – лодочки, тридцать монеток за «Сюрприз». Когда моя очередь подошла, я протянул деньги и купил три билета. Мое путешествие в детство завершилось в кабинке колеса обозрения. В Советском Союзе наше Энское колесо считалось самым высоким.
Я наслаждался видами города с высоты птичьего полета. Энск тонул в зелени. На горизонте блестело море в лучах заката. Я видел свой дом и даже сумел разглядеть балкон нашей квартиры. Откинувшись в кресле, медленно вертел руль, крутя кабинку. И ровно в тот момент, когда я начал спускаться с самой верхней точки, в одной из кабинок обнаружил знакомую до боли фигуру.