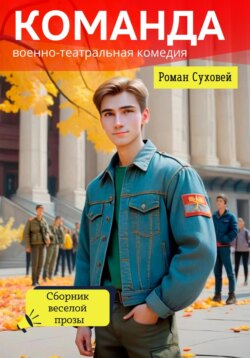Читать книгу Команда: военно-театральная комедия - - Страница 2
ЖЕНЯ
Оглавление– Это пьяниц надо бить и наказывать, а алкоголиков – жалеть, – заявил Женя, выливая остаток поллитровки в несвежие гранёные рюмки с поцарапанными наклейками, изображавшими когда-то что-то вроде цветиков-семицветиков. (Такие рюмки можно купить на станции «Вековое», двенадцать штук за десятку).
Сегодня Женя выпивал с могильщиками…
Надоело стоять возле перехода в метро и продавать собственные стихи между Валькой «кому укроп» и Владимиром Ивановичем «куплю часы». Тысячный тираж обошёлся в миллион с копейками (пришлось занять у матери) – не так уж и дорого, если продавать его по десять тысяч за экземпляр; какой там недорого – очень даже выгодно, но всё равно скучно.
«Скажу матери, что сегодня родительская суббота, если спросит, почему ничего не продал», – рассуждал Женя, спускаясь в метрополитен.
Могила отца находилась недалеко от Бутово, то есть на другом конце города, поэтому в пути можно было успеть не только подумать о смысле жизни, но и купить бутылку «Ферейна», что, собственно, и сделал Евгений.
– Здор`ово, мужики, – обратился он в достаточно бодрой форме к знакомым могильщикам и, в частности, к бригадиру Ренату.
– О, здор`ово, Жень, опять кого-то привёз?
– Да ну тебя… – рассмеялся Евгений и достал бутылку «брынцаловки». – Как насчёт по пять капель?
«Мы – за», – расслышалось в единодушном молчании могильщиков. Они всегда были за. Закопав очередного покойника, они поминали с близкими родственниками душу усопшего, а затем уже сами, без родственников, выпивали и закусывали до наступления очередного сеанса, потому что было холодно. У них это называлось «перемена», а перемена в конце рабочего дня назвалась «последний звонок».
– Ща, Жень, упакуем жмурика и догонимся, – заверил Ренат, надевая строительные варежки.
Вся бригада состояла из татар. Это и неудивительно, ведь практически все подмосковные кладбища захватили татары – в одушевлённом смысле этого слова. Поэтому будь готов, православный москвич, что в последний путь тебя проводит подмосковный мусульманин. Новое время расставило всё по своим местам: кладбища – татарам, троллейбусы – украинцам, рынки – азербайджанцам, автомобильный бизнес – грузинам (гардабани), обувные ларьки «кому почистить ботинки» – старикам-ассирийцам, свободу – безработным и беженцам, а демократию – чиновникам и дельцам.
Бедная моя Москва, тебя опять покупают, опять продают, ты опять танцуешь для всех, кроме москвичей.
Надо сказать, что Евгений принадлежал к числу людей, которые до сорока обманывают всех в том, что не пьянеют, сколько бы ни выпили, а к сорока трём обманывают в том же самих себя, потому что с другими этот номер уже не проходит.
С могильщиками было спокойно и весело, а главное, не нужно было никого обманывать. Сделав первые два глотка в одиночку, а затем догнавшись вместе с татарами, Женя рассудил, что больше ему здесь делать нечего и что пора возвращаться домой. Зашёл на минуту к отцу – проверить, не стащили ли ограду и надгробную плиту, которую мать поставила на год со дня смерти мужа, продавая для этого собственные картины. (Возможно, у неё был талант, но в данном случае она писала по школе «чем быстрее – тем лучше». В основном, картины были приблизительные, но яркие и к тому же стоили сравнительно недорого, поэтому многие из них покупались, и довольно охотно). Плита и ограда оказались на месте – тем более можно было спокойно возвращаться домой, ещё раз подумать о смысле жизни и, возможно, купить ещё одну бутылку «Ферейна».
Тётя Люся – мать Евгения – после смерти мужа Василия Евгеньевича решила разобрать его библиотеку, которую без ложной скромности можно было бы назвать «внебрачной дочерью» Центральной библиотеки имени Ленина. Разбору подлежали все книги без исключения, разбирались они строго по системе «евреи и не евреи». Евреи, разумеется, подлежали дальнейшему выносу из квартиры на продажу и частичному уничтожению через разрывание суперобложки – ну, это когда очень не нравились. Причём евреями оказались практически все, кроме Пушкина, Чехова и двух томов «Анны Карениной» Льва Николаевича Толстого, да ещё Гоголь. Слава богу, Люсе никто не сказал, что его в детстве звали Яновский. Безумно был обижен Александр Николаевич Островский – он прямо-таки и заявил об этом, упав третьим томом по одному месту «Климу Самгину», тем самым был обижен ещё один русский классик. А Михаил Юрьевич Лермонтов узнал о том, что «Мцыри» – это жидовская прокламация:
– Ты мне ещё скажи, что Мцыри – русское имя! – восклицала тётя Люся.
Так вот, Михаил Юрьевич, несмотря ни на что, решил всё-таки убить этого Мартынова, дожить всем назло до наших времён, тем самым показав фигу в кармане неевреям Пушкину и Чехову, вызвать Люсю на дуэль и, пригрозив кровавой расправой, заставить прочитать её хотя бы одно своё стихотворение.
Самое удивительное, что погром задел и русофила Фёдора Достоевского, и антисемита Сергея Есенина, причём по довольно весомым причинам: в Достоевском смущало окончание «-ский», а в Есенине беспокоили слишком голубые глаза на фоне слишком кучерявой головы. (Интересно, как Люся могла увидеть голубые глаза на чёрно-белой фотографии? Но в тот момент мы об этом не думали, а убеждали её, что, если бы Есенин и Достоевский жили бы в наше время, то, безусловно, голосовали бы за двадцать пятый номер – за коммунистов. Парадоксально, но Люся любила партию Ленина, хотя именно эта партия и породила целую плеяду незабвенных евреев. Парадоксально, но факт).
Да, что касается зарубежной литературы, то там, как выяснилось, все авторы оказались выходцами с земли обетованной, за исключением Джека Лондона, потому что его собрание сочинений подпирали сочинения Чехова, находившиеся на самой верхней полке. Снимать основоположника новой драмы с такой верхотуры тёте Люсе было лень, поэтому Лондона оставили в покое. Таким образом Антон спас Джека – возможно, сам того и не желая, проявив при этом братскую взаимовыручку между писателями всего мира, а человеческая лень ещё раз доказала, что имеет право на серьёзное отношение к себе как к двигателю культурного прогресса.
Но всё это было шестью днями раньше.
А сегодня я через полчаса должен выйти на сцену «Театра юного зрителя» города Твери, по отчиму Калинина, в образе молодого повесы, Люся будет писать натюрморт в манере художника Класса – другими словами, просто перерисовывать, а Евгений, делая переход через станцию метро «Новокузнецкая», встретится с Леной.
Надо сказать, что Женя имел отличительные черты всех пишущих людей: спотыкался на ступенях метро, забывал детали собственного гардероба у друзей, флиртовал с девушкой, предчувствуя влюблённость, и преимущественно молчал, отводя глаза от по-настоящему любимой. С Леной он не разговаривал никогда, хотя знал её с первого курса театрального института, из которого через два года после поступления был отчислен за профнепригодность.
– Вы хороший человек, но это не профессия, и поймите нас: мы готовим не учителей физкультуры, а спортсменов высшей лиги, – это единственная фраза, которую запомнил Евгений из разговора с помощником мастера курса С. Крылатовым.
В те годы все товарищи-сокурсники были увлечены Шекспиром и Брехтом, Достоевским и Михаилом Чеховым, Юрием Любимовым и Анатолием Васильевым, Владимиром Ивановичем и Константином Сергеевичем, Федерико Феллини и Антониони, Леонидом Гайдаем и Георгием Данелией. Евгений же был увлечён Леной. Тогда-то он впервые и понял, что значит сохнуть из-за любви, потому как действительно высох и мог составить конкуренцию перочинному ножику. Друзья ему так и говорили: «Ты, старик, – тонкий артист», обычно после того, как мастер курса Старикова кричала из зала: «Не перекрывайте Женю, его и так не видно».
Все влюблённые пары похожи друг на друга, а каждая неразделённая любовь не разделённая по-своему. Правда, для истинного художника нет более мощного импульса к творчеству, чем безответная любовь: Чарли Чаплин, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Фаина Раневская, Сирано де Бержерак – вот те немногие, которые так или иначе были обделены вниманием своих возлюбленных. А какой результат! Какое могучее наследие! Всем бы так.
По части неразделённости в личном вопросе Женя с полной уверенностью мог бы занять в этой звёздной группе одно из лидирующих мест, по части всего остального – ему ещё пока что не хватало настойчивости и опыта. Хотя главное произошло: он начал писать стихи, отдаваясь этому делу немного скрытно, но самозабвенно. Я даже запомнил одно четверостишие из его первого стихотворения:
Я – очарованный разиня,
Витаю в вашей красоте.
Вы – недоступная богиня
На вседоступной высоте.
– Жека, а что значит «на вседоступной высоте»? – спросил я его между репетициями «Горячего сердца».
– Не знаю, – ответил он. – Точнее, пока не знаю.
Месяца через два я случайно оказался свидетелем разговора между Леной и её подругой Элей:
– Да нет, я на самом деле не снималась на этих натурных съёмках, просто у нас с режиссёром сложились хорошие отношения, поэтому он меня и взял.
«…поэтому он меня и взял», – услышал я и подумал, что всё искренне предчувствуемое, а тем более выраженное на бумаге обязательно находит своё одушевление. Подумал и уже больше не задавал Жене вопрос о «вседоступной богине».
Лена сидела на скамеечке в центре зала «Новокузнецкой» в чёрном кожаном плаще, искусственность кожи которого органично подчёркивала неаккуратно подкрашенные глаза и ярко-красную помаду на её губах. Волосы были небрежно убраны в пучок, что, собственно, и придавало шарм этой женщине (чьё очарование некогда искристой молодости было спрятано где-то в уголках глаз). Выражение лица было слегка отсутствующим и не давало ни малейшего повода к случайной встрече.
Евгений сел на скамеечку с другой стороны зала и стал наблюдать за той, которую некогда считал своей музой; за той, которая, не ведая того, дала возможность Жене обнаружить в себе ту пронзительную страсть, которая называется «поэт», и, наконец, за той, которая некогда изменила его, а теперь изменилась сама и уже с большой натяжкой могла бы претендовать на вакантное место музы.
«О чём я буду с ней говорить? И главное как? – рассуждал Женя. – Во-первых, я нетрезв и слегка небрит, если это можно назвать «слегка»; во-вторых, она вряд ли захочет услышать «а ты помнишь…» или «а ты знаешь, а я ведь тебя… всё это время… ну, в общем, сама понимаешь…». Хотя можно подарить книжку со стихами – по крайней мере, всё будет легче нести этот дурацкий дипломат. Наверно, так и подпишу ей: «Спасибо за облегчение. Некогда ваш, а теперь ничей. Евгений»… Стоп. А где дипломат? Ой-ё! Тоже мне, тяжело-тяжело – чемодана-то нет, – наконец-то сообразил Женя, вспоминая, что оставил дипломат у татар, потому что после могилы отца хотел по-серьёзному попрощаться с мужиками на случай «а вдруг у них ещё что-нибудь осталось». «Ренату-то нафиг мои стихи не нужны, – прикинул Евгений. – Лежит сейчас мой дипломат где-нибудь в подсобке или в крайнем случае стоит на могильной плите как обелиск в честь незабвенной памяти поэту-ротозею. Ладно, завтра съезжу к мужикам – будет повод, чтоб не ходить с матерью продавать картины».
Далее, если придерживаться уровня незатейливой литературы, можно было бы написать, что вновь нахлынула толпа метрополитеновских путешественников – куда-то спешащих, что-то жующих, о чём-то молчащих, иногда приветливо улыбающихся, чтобы скрыть оттенок подземельной тоски, но улыбающихся не вам, а вы опять не поговорили с той, о которой временами думали, и даже чуточку в возвышенных апофигемах. «Но, может быть, и хорошо, что вы не поговорили, – размышлял бы автор, – потому что тем самым ваше юношеское впечатление о ней осталось девственным и невредимым».
Ну что ж, можно сказать и так, тем более что всё где-то так и произошло. За исключением того, что Женя всё-таки подошёл к Лене и попытался объяснить ей, что, собственно, уже давно знает её и что в некотором смысле неравнодушен к ней, преимущественно напирая на учебное заведение, в котором они вместе учились, и на то томление студента, которое булькало у него в груди при её появлении. Но тут монолог Евгения неожиданно был прерван.
– Мужчина, мне, конечно, очень приятно, но лучше не дышите на меня – это во-первых; во-вторых, я никогда не училась в театральном, я вообще не училась в Москве, я в Челябинске живу; а в-третьих, меня зовут Валентина, а не Лена, а в-четвертых…
Ну, там уж совсем «так забулькало», что Женя не стал дожидаться пятого, шестого и следующих пунктов, а своевременно затерялся в толпе, которая, в свою очередь, унесла вместе с ним и это короткое недоразумение.
Дверь открыла тётя Люся.
– Тебе звонил Митько, сказал, скоро выйдет, написал две нетленки. Динка, заткнись!
Динкой звали маленькую собачонку – такую, которым в начале жизни обрубают хвостик с эстетической точки зрения, тем самым порождая в животных комплекс неполноценности, а потом всю оставшуюся жизнь пытаются её чем-нибудь укокошить, чтоб не комплексовала, сука, и не бросалась на кого ни попадя. Диночке хвостик не обрубили, и зря. Тем самым животное вообразило этот знак как миссию мстительницы, обязанной расквитаться за все порубанные собачьи хвостики, направляя свою террористическую деятельность против всего человечества и каждого человека в отдельности. Она мстила с искринкой в глазах и с истерическим восторгом на зубах. Каждому уходящему из квартиры бросалась в ноги, подобно противотанковой гранате – за всех Чап, Дин, Манюнь, за все искалеченные собачьи судьбы. Но, что самое интересное, на улице она боролась с Чапами и Манюнями с таким же остервенением, как и со всем человечеством. Наверное, ошибалась, не знаю. Ну, в общем, в любом деле бывают перехлёсты, а тем более в такой собачьей работе.
– Мать, убери этого крокодила, а то я сейчас с ней в воробья сыграю, – это Женя намекнул на то, что может выбросить Диночку с балкона.
– Ой, крокодил, тоже мне нашёл крокодила. Динка, заткнись, иди к себе. Маленькую девочку крокодилом называет. Это твой Митько – крокодил. Тоже мне, нашёл друга, собутыльника себе под стать. Как один – псих ненормальный, так и другой.
Попасть в психушку для творческого человека – это всё равно что получить медаль за отвагу. Поэт Митько, в молодости – журналист, в зрелости – алкоголик, имел подобных наградных знаков более, чем стихов в его первом неопубликованном сборнике «Река-любовь». Приводы в психдиспансер были его первым и единственным доказательством собственной даровитости, остальное говорило об обратном. Обычно Митько любил позвонить рано утром по телефону и прочитать своё новое стихотворение. Это у него называлось «прочитать из ранних – от шести до девяти утра». А так как Митько плодовитый поэт, то звонил он как минимум через день.
– Ещё раз позвонит, я ему так и скажу: «Пьяница психованный». А ты тоже мне поэт, додумался животное крокодилом называть, – завершила тётя Люся, швырнув в собачку отцовским тапком. – Динка, заткнись!
Женя разделся, помыл руки, посмотрел в зеркало и на удивление нашёл там нечто похожее на себя. Потом, уже в своей комнате, он решил, что побреется завтра, потому что сегодня это всё равно бы не получилось.
«Шесть часов вечера, а я ещё ничего не написал, не пообедал и ни в кого не влюбился», – заключил Евгений, доставая из верхнего отделения гардероба отцовский трофейный пистолет, завёрнутый в несколько страниц «Экстро-М» и убранный в белый зимний сапог.
На улице уже в который раз с переменным успехом ремонтировали АТЭС, работал какой-то мотор, кто-то кричал, чтобы накладывали побольше, «а то только зря машину гоняем», со второго этажа на асфальт кидали металлические углы, и их вопль при падении размножался в бесконечное пронзительное эхо, отражавшееся в домах этого замкнутого дворика. Одним словом, для городского октября это был обыкновенный день, окончательно не разобравшийся в том, будничный он или выходной, но пасмурный и шумный. Наверно, поэтому никто и не услышал выстрела.
Правда, выстрела не услышали ещё и потому, что никто не стрелял.
1996 год