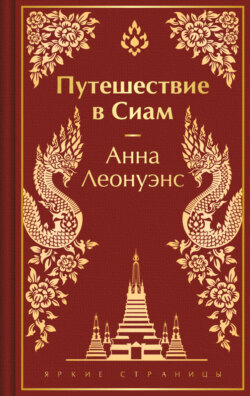Читать книгу Путешествие в Сиам - - Страница 4
Глава II
Первый министр Cиама у себя дома
ОглавлениеЯ встала, поправила на себе платье, пригладила волосы, хотя ни вода, ни прочие другие средства не смогли бы скрыть темные следы, что мрак ночи и одиночество оставили на моем лице. Зато мой сын проснулся бодрым: в глазах нетерпение и любопытство, улыбка лучезарная, волосы сияют. Мы вместе преклонили колени перед нашим Создателем, и, пребывая в тревожном состоянии, я невольно задалась вопросом: неужели для очищения столь юной души необходимы такие жестокие испытания, каким подвергаемся мы?
В общей комнате мы встретили миссис Б. en déshabillé [10]. Теперь она едва ли была так привлекательна, как нам показалось при первом знакомстве, но приятность ее едва уловимой тающей улыбки искупала все прочие недостатки. За завтраком нам составил компанию хозяин дома. Посмеявшись над нашими недавними затруднениями и тревогами, он поспешил заверить меня в подлинном великодушии принца Кром Луанг Вонгсе, в чем я с тех пор не переставала убеждаться. Всякий живущий в Бангкоке иностранец, который водил дружеское знакомство или вел с ним какие-то дела, вне сомнения, присоединится ко мне в выражении восхищения и почтения к тому, кому, несмотря на трудные обстоятельства, в условиях деспотичного режима, удавалось сохранять репутацию человека либеральных взглядов, порядочного, справедливого и гуманного.
Вскоре после завтрака за нами прибыла лодка первого министра вместе с рабом-переводчиком, задававшим мне вопросы на пароходе, чтобы доставить нас во дворец Его Светлости.
Через четверть часа мы уже стояли перед низкими воротами, которые вели в широкий двор, мощенный грубо отесанными каменными плитами. Вход охраняли два каменных китайских мандарина [11] на каменных конях. Чуть дальше с барельефов на нас взирали два тяжеловооруженных всадника, а рядом с их выпуклыми скульптурными изображениями стояли два живых стражника в европейских костюмах, но без обуви. Слева находился павильон для театральных представлений; одну его стену целиком украшали декорации. Справа стоял дворец первого министра с полукруглым фасадом. В глубине тянулся ряд зданий, в которых проживали его многочисленные жены. К самому большому из тех домов примыкал благоухающий цветами сад, в центре которого плескался живительный фонтан. Резиденцию Его Светлости отличало обилие элегантных по композиции и цветовой гамме резных украшений и позолоты, которые великолепно гармонировали с роскошными портьерами, пышными складками ниспадавшими с карнизов над окнами.
Мы бесшумно ступали следом за переводчиком, который вел нас через анфиладу расположенных ярусами просторных залов. Все были устланы коврами, украшены светильниками и пышно убраны в европейском стиле. На инкрустированном жемчугом столе с чеканным серебряным орнаментом стояла огромная полированная серебряная ваза с выпуклым узором. Куда ни посмотри, мой взор услаждали необычные сосуды, украшенные драгоценными камнями чаши, блестящие полированные кубки, изящные статуэтки, objets de virtu [12], восточные и европейские, античные и современные – смешение варварского великолепия с изысканностью современных искусств.
Пока мы, зачарованные, растерянно озирались по сторонам, перед нами внезапно вырос первый министр, опять по-дикарски полуобнаженный, как и минувшим вечером. Утратив присутствие духа, я в своем смущении уже готова была покинуть комнату. Но он, протянув руку, произнес:
– Доброе утро, сэр! Прошу садиться, сэр!
Я нерешительно присела, хотя его комичное «сэр» вызвало у меня улыбку. Из-за портьер выглядывали несколько девушек. Мужчины из свиты министра, в числе которых были его младшие братья, племянники и кузены, в раболепных позах ждали в аванзале. Его Cветлость, все так же не сознавая, сколь неприлично скуден его костюм, с выражением довольства и любопытства на лице приблизился к нам, по-доброму потрепав по голове моего сына и спросив, как его зовут. Но вместо ответа мой ребенок плаксиво вскричал:
– Мама, поедем домой! Мама, пожалуйста, поедем домой!
Я с трудом его успокоила.
Наконец набравшись храбрости, я осмелилась выразить свое желание – попросила, чтобы мне выделили тихий домик или комнаты, где я могла бы уединиться, не опасаясь вторжения незваных гостей, и довольствовалась бы полной свободой до и после учебных занятий.
Первый министр
Когда мою резонную просьбу перевели министру, как мне показалось, всего в нескольких односложных словах, Его Светлость посмотрел на меня с улыбкой, словно его удивило и позабавило, что мне известно такое понятие, как свобода. Взгляд его мгновенно стал пытливым и многозначительным. Вероятно, подумалось мне, у него возникли сомнения относительно того, как я могу распорядиться упомянутой свободой, и он не мог взять в толк, зачем женщине вообще нужна свобода. Должно быть, подобные мысли действительно посетили министра, ибо он вдруг резким тоном констатировал:
– У вас нет мужа!
Я склонила голову.
– Тогда куда вы будете ходить вечерами?
– Никуда, Ваша Светлость. Я просто хочу, чтобы мне и моему сыну были гарантированы несколько часов личного времени и покоя, когда мои обязанности не будут требовать моего присутствия где-то еще.
– Как давно вы похоронили мужа? – спросил министр.
Я ответила, что Его Светлость не вправе лезть в мою личную жизнь. Я готова ответить на любые его вопросы, касающиеся моей работы гувернантки, но все остальные темы я отказываюсь с ним обсуждать. Мой дерзкий ответ поверг его в полнейшее изумление, что доставило мне удовольствие.
– Tam chai! (Как вам угодно!) – бросил он и продолжал с улыбкой расхаживать взад-вперед, не отрывая глаз от моего лица. Потом сказал что-то своей свите. Пятеро или шестеро из них тотчас же поднялись на колени и, не поднимая глаз от ковра, неуклюже дергая головами и плечами, ползком попятились до самых ступенек, где резво вскочили на ноги и выбежали из комнаты. Мой сын, охваченный страхом и ужасом, заплакал. Я тоже вздрогнула. Его Светлость опять что-то гортанно рявкнул, и еще с полдесятка распластанных рабов, словно их ударило током, мгновенно поднялись с пола и исчезли из виду.
– Мама, поедем домой! – закричал мой перепуганный сын. – Почему ты не едешь домой? Мне не нравится тот человек.
Его Светлость остановился как вкопанный и, зловеще понизив голос, сказал:
– Никуда вы не поедете!
Сын вцепился ручонками в мое платье и зарылся лицом в мои колени, заглушая всхлипы; и все же любопытство его не оставляло, и, завороженный, бедняжка время от времени поднимал голову, но тут же с содроганием снова прятал лицо. Посему я безумно обрадовалась, когда переводчик вернулся, ползя на четвереньках. Переставляя перед собой одну согнутую в локте руку за другой, как это принято у его народа, он приблизился к своему господину, стал славословить и осыпать его почестями, будто бога. В ответ Его Светлость произнес что-то непонятное, затем поклонился нам и скрылся за зеркалом. Любопытные глаза, наблюдавшие за нами из-за портьеры, мгновенно исчезли, и в ту же секунду полилась приятная бессмысленная музыка, как неумолчный перезвон серебряных колокольчиков вдалеке.
К моему несказанному удивлению, переводчик смело поднялся с четверенек и принялся рассматривать в зеркале свое «неотразимое» лицо и фигуру, с наглым самодовольством поправляя свой обожаемый пучок волос на макушке. Налюбовавшись собой, он чванливой походкой приблизился к нам и обратился ко мне с возмутительной бесцеремонностью, так что мне пришлось сбить с него спесь.
Я не требую, чтобы передо мной падали ниц, заявила я, – но фамильярности и непочтительности ни от кого не потерплю.
Он прекрасно меня понял, но не дал мне опомниться от изумления, вызванного внезапной переменой в его поведении. Ведя нас к двум элегантным комнатам, которые выделили нам в западном крыле дворца, он сообщил, что приходится единокровным братом первому министру, и намекнул, что мне следует быть с ним поласковее, если я хочу жить здесь в свое удовольствие. Входя в одну из предназначенных нам комнат, я повернулась к нему и гневным тоном велела удалиться. В следующее мгновение этот единокровный брат сиамского сановника согнулся в три погибели в полуоткрытой двери, умоляя не жаловаться на него Его Светлости и обещая никогда больше не оскорблять меня. На моих глазах происходило чудо раскаяния, которого я не ждала, но это чудо было притворством. В этом гнусном холуе соединилось все самое отвратительное: злоба, коварство, наглость, подобострастие и лицемерие.
Наши комнаты выходили на тихую террасу под сенью цветущих плодовых деревьев. Из окон было видно небольшое искусственное озеро с красивыми игривыми рыбками.
Создавать шум – любимое развлечение сиамских женщин. Едва мы устроились в наших комнатах, к нам вторглись беспорядочной толпой визгливо смеющиеся леди из гарема первого министра – личной Юты [13] Его Cветлости. Теснясь в проеме полуоткрытой двери, они с жадным любопытством таращились на нас, тянули руки, все одновременно пытаясь обнять меня, и пронзительно галдели вразнобой на своем сиамском наречии, как попугаи. Я со своей стороны на языке жестов и взглядов старалась изображать бесстрастную приветливость. Почти все женщины были молоды и в соразмерности форм, изяществе черт и нежности кожи решительно превосходили малайских женщин, к которым я была привычна. Большинство из них можно было бы назвать красивыми, если бы не их изобретательно безобразные прически и черненые зубы.
Самые молодые были фактически детьми, им едва исполнилось четырнадцать. На всех одеяния из богатых дорогих тканей, хотя по фасону наряды не отличались от платьев рабынь, которые, пав ниц, ждали указаний в комнатах и коридорах. Моя комната засверкала малиновыми, синими, оранжевыми и пурпурными красками, блеском колец, драгоценных шкатулок, прочих золотых и бриллиантовых украшений. Две или три юные особы с чистой бархатной оливковой кожей лица и темными сияющими миндалевидными глазами соответствовали моим западным представлениям о красоте. Пожилые женщины были уродливы до омерзения. Одна старая карга с важным видом прошаркала сквозь шумную толпу и, показывая на моего сына, сидевшего у меня на коленях, воскликнула:
– Мулэй, мулэй! Красивый, красивый!
Знакомое малайское слово приятно ласкало слух. Я обрадовалась, что нашелся человек, который, возможно, сумеет приструнить слетевшееся к нам буйное сборище. Я обратилась к старухе по-малайски, и мои гости мгновенно затихли, замерли в ожидании.
Она объяснила, что является одной из многочисленных блюстительниц гарема. Сама она родом из Кедаха. Примерно шестьдесят лет назад ее вместе с сестрой и другими молодыми малайзийками, работавшими в полях, пленил отряд сиамских солдат-наемников. Их привезли в Сиам и продали в рабство. На первых порах она сильно скучала по дому и родителям, но, поскольку тогда она была молодой и привлекательной, на нее обратил внимание покойный Сомдеч Онг Яй, отец ее нынешнего господина, и она родила ему двух сыновей, таких же красивых, как мой чудный сынишка. Но они умерли. (Кончиком замызганного шелкового шарфа пожилая женщина незаметно отерла слезинку с лица, которое больше не казалось мне безобразным.) И ее милостивый господин тоже умер; это он подарил ей восхитительную золотую бетельницу, с которой она не расстается.
– Но как же получилось, что вы до сих пор остаетесь рабыней? – спросила я.
– Я стара, безобразна, бездетна и посему пользуюсь доверием сына моего покойного господина, милосердного принца, тысячу благословений на его голову. – Сцепив вместе морщинистые руки, пожилая женщина повернулась в ту сторону дворца, где, вне сомнения, отдыхал милосердный принц. – И теперь мне дарована привилегия надзирать за его любимицами, следить, чтобы они не показывались на глаза никому из мужчин, кроме своего господина.
Отталкивающее уродство этой женщины происходило от долгих лет угнетения, хотя некогда, должно быть, она была красива, ибо воспоминания возродили давно утраченные сокровища, и дух красоты на мгновение озарил ее лицо. Быть рабыней в гареме азиатского деспота – жестокая трагедия для женщины, и живущий в ней от рожденья ангел был раздавлен, изувечен, искалечен, истерзан, но не уничтожен.
Она закончила свой рассказ, и молодые женщины, которым ее язык был чужд, уже больше не могли сдерживать свое веселье или соблюдать приличия хотя бы из уважения к ее возрасту и авторитету. Они снова, как пчелы, стали роиться вокруг меня, настойчиво засыпая вопросами. Их интересовало все: мой возраст, муж, дети, моя родина, мои привычки, имущество. В конце концов со всей серьезностью они спросили, разве для меня стать женой принца, их господина, не предпочтительнее, нежели быть женой ужасного Чао-че-вита [14].
От такого чудовищного предположения я онемела. Не отвечая, встала, стряхнула с себя глупых девиц и вместе с сыном удалилась во внутренние покои. Но они, повторяя свой вопрос, без стеснения гурьбой ринулись за мной, да еще потащили следом малайскую дуэнью, чтобы она перевела мой ответ. Назойливость этих молодых особ меня возмутила, но потом я представила, насколько скудна их жизнь в золотой клетке, насколько жалки их чаяния и радости, любови и воспоминания, представила священный ужас на их лицах, который вызовет честный ответ, и устыдилась своего гнева.
Видя, что избавиться от женщин невозможно, я пообещала ответить на их вопрос при условии, что на сегодняшний день они оставят меня в покое. Взгляды наложниц устремились на меня.
– Принц, ваш господин, и король, ваш Чао-че-вит – язычники, – сказала я. – Англичанка, то есть христианка, скорее даст себя замучить, сковать цепями и приговорить к пожизненному заточению в подземной темнице или примет самую медленную, самую жестокую смерть, нежели станет женой того или другого.
Мои слова были встречены изумленным молчанием, вероятно, внушенным неким интуитивным чувством уважения. В конце концов одна из женщин, более ветреная, чем остальные, вскричала:
– Что? Даже если он подарит вам драгоценные кольца и шкатулки, золотые украшения?
Когда старая малайка, боясь нанести мне оскорбление, шепотом перевела этот провокационный вопрос, я рассмеялась, глядя на серьезные лица вокруг.
– Да, даже в этом случае, – сказала я. – Я приехала сюда давать уроки королевской семье. Я не такая, как вы. Вы только и знаете, что резвитесь, поете и танцуете, развлекая своего господина, а я должна работать, чтобы содержать своих детей; один из них сейчас за просторами великого океана, и сердце мое полно печали.
На лицах моих слушателей отразилось сочувствие, более или менее глубокое, и с минуту они растерянно смотрели на меня, как на человека, которого нельзя ни убедить, ни утешить, ни понять. Потом, тихо восклицая: «Пут-тху! Пут-тху! [Боже мой! Боже мой!]», женщины бесшумно вышли из комнаты. Минутой позже до меня из коридоров донеслись их верещание и смех.
Избавившись от своих любопытных утомительных гостей, я прилегла и крепко заснула. После обеда меня внезапно разбудили крики Биби. Она влетела в комнату с непокрытой головой (тонкая муслиновая вуаль путалась у нее под ногами), и в лице ее читались ужас и отчаяние. Мунши, ее супруг, не зная ни внутренней планировки дворца, ни местного языка, ни существующих здесь правил, по ошибке вторгся в святая святых гарема, где возлежала королева, – к вящему ужасу самой съежившейся Нурмагаль [15] и неописуемому гневу охранявших ее старух. Две из них, самые безобразные, свирепые и мускулистые, потащили ополоумевшего и дрожащего Мунши к судье.
Я опрометью бросилась следом за Биби к открытой сале [16], где мы и нашли нашего почтенного слугу Пророка – со связанными руками, без тюрбана, удрученного горем, но не ропщущего. Истинный мусульманин, Мунши с философским смирением ждал, когда ему перережут горло, поскольку это был его кисмет (злой рок): коварная судьба распорядилась так, что он оказался в краю кяфиров (неверных). Пообещав Мунши, что бояться ему нечего, я отправила гонца на поиски переводчика. Биби продолжала голосить и возмущаться. Вскоре в салу с важным видом ступил импозантный персонаж, внешне во всем соответствовавший своим манерам и характеру. Это был судья. Тщетно силилась я объяснить ему знаками и жестами, что мой слуга нанес оскорбление неумышленно. Тот не мог или не хотел меня понять. Судья принялся орать на несчастного старика. Мунши выслушивал брань со спокойным безразличием несведущего: его никогда еще не поносили на иностранном языке.
Бездельники всех мастей, лодырничавшие во двориках и крытых галереях, стряхнули с себя ленивую дремоту и собрались вокруг нас. С ними явился и переводчик, кривя губы в наглой довольной ухмылке. Он наотрез отказался вмешиваться, надменно заявив, что его это не касается, что судья будет оскорблен, если он примет участие в разбирательстве. Мунши приговорили к двадцати ударам плетью. Тут мое терпение лопнуло. Я решительно подошла к судье и пригрозила, что немедленно доложу о творящемся произволе британскому консулу, если плеть хотя бы раз коснется моего старого слуги, которому уже оголили спину. Я, разумеется, говорила по-английски, но судья уловил знакомые слова «британский консул». Он повернулся к переводчику и потребовал объяснений, которые ему следовало выслушать до вынесения приговора. Пока переводчик что-то тараторил неразумному чиновнику, в сале возник ажиотаж, как сказали бы французы. Судья, переводчик и все остальные пали ниц, согнувшись в три погибели, ибо перед нами явился сам первый министр. С одного взгляда оценив ситуацию, он велел освободить Мунши и, по моей просьбе, позволил ему удалиться в комнату, выделенную Биби.
Рабы принялись резво исполнять его милостивое повеление, а переводчик тем временем на четвереньках, не поднимая от пола лица, отползал назад. А вот старый мусульманин, едва ему развязали руки, взял свой тюрбан и с грациозной почтительностью, свойственной его народу, положил головной убор к ногам своего избавителя.
– Да пребудете вы в мире, о, мудрейший из мудрейших!
Кротость и благоговение Мунши, его укрывающая грудь белоснежная борода, должно быть, внушили государственному мужу Сиама прочное чувство уважения и симпатии к моему слуге, ибо с той поры он всегда был снисходителен к этому восточному Домини Сэмпсону [17] из небольшого круга моих домочадцев.
Ужин во дворце главного министра по составу блюд и обслуживанию сочетал в себе несочетаемое: варварство и утонченность, восточное и европейское – то же, что было характерно для убранства дворца. Наглые щуплые пажи дымили сигаретами, подавая блюда и время от времени пританцовывая, подбегали к чашам в форме головы горгоны Медузы, чтобы отхаркнуть в них. Я отчитала их за столь дерзкое поведение, а они в ответ лишь рассмеялись и быстренько удалились. Другая группа пажей принесла фрукты. Поставив корзины и вазы на стол, они развалились на диванах, ожидая, когда мы закончим трапезу. Им я тоже дала отповедь, а они весело рассмеялись, исполнили на ковре несколько акробатических трюков и ушли, предоставив нам самим обслуживать себя.
Мою симпатичную террасу накрывали сумерки. Низкие лучи заходящего солнца отражались от витражей длинными разноцветными стрелами, окрашивая золотисто-розовыми красками низкий лоб, потупленный взор и изящную грудь каменной Клитии [18]. Биби и Мунши готовили себе ужин во дворе под открытым небом, и дым от огня, на котором они варили похлебку, медленно поднимался вверх и расползался в жарком неподвижном воздухе, взбалтываемом лишь беспечным смехом девушек, плескавшихся в покрытом рябью озере. Сияющая мгла на улице сливалась с сияющей мглой внутри дворца, где свет и тени лежали в полудреме, а дыхание жизни постепенно замирало или на волнах сонного потока лениво плыло к океану смерти.
10
En déshabillé (фр.) – неглиже, быть одетым по-домашнему.
11
Мандарин – здесь подразумевается китайский вельможа. Этот титул носили только те лица, которые имели высокое должностное положение и принадлежали к представителям правящей династии.
12
Objets de virtu (фр.) – предметы искусства, ценности.
13
Вероятно, отсылка к практике многоженства среди мормонов (проживают в штате Юта в США) в XIX в.
14
Чао-че-вит – Вседержитель, верховный король. (Прим. автора.)
15
Отсылка к поэме ирландского поэта-романтика Томаса Мура (1779 –1852) «Свет гарема» (1817), где главная героиня – принцесса Нурмагаль.
16
Сале – здесь имеется в виду место на улице под навесом.
17
Домини Сэмпсон – персонаж романа Вальтера Скотта (1771–1832) «Гай Мэннеринг, или Астролог» (1815), «скромный и смиренный учитель, проложивший себе дорогу сквозь дебри классической филологии, но в жизни не сумевший найти себе пути», получивший прозвище «немой проповедник».
18
Клития – персонаж греческой мифологии, нимфа, любовь которой отверг Аполлон.