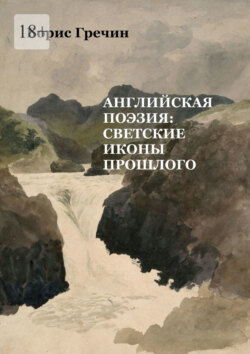Читать книгу Английская поэзия: светские иконы прошлого - - Страница 2
Введение
ОглавлениеАвтор приступает к этому циклу лекций с некоторой робостью. Исследований, посвящённых английской поэзии – или академических курсов с тем же названием, – существует великое множество. Какую пользу – кроме удовлетворения нелепого тщеславия автора – принесёт ещё один? Какой смысл в курсе о поэзии, прочитанном кем-то, кто сам не является поэтом? В конце концов, поэзия – это искусство, а не область естественных наук, и качество суждений о ней, вероятно, находится в прямой зависимости от качеств ума или, может быть, литературных навыков того, кто о ней говорит. Наконец, есть ли смысл в курсе об английской поэзии, написанном на русском языке? Поэзия, в отличие от художественной прозы, переводима плохо, потому что, вновь в отличие от прозы, слишком связана с самой фактурой языка, его плотью, его ритмами, его звуками. За примерами не нужно ходить далеко: Пушкин мало интересен западному читателю, а переводы его стихотворений на других языках воспринимаются как «русское шампанское» – или, возможно, как шампанское, которое долго стояло без пробки.
Всё это – разумные, справедливые вопросы. Тем не менее, автор приготовил два оправдания.
Моё первое оправдание в том, что этот курс – авторский (и в значительной мере произвольный в отборе материала, или, как говорят в педагогике, экземплярный). Он не стремится охватить всю полноту английской поэзии или дать её безупречно точную картину. Он всего лишь пробует передать её уникальную духовную атмосферу, её вкус, воспроизвести перед глазами слушателя (или читателя) основные цвета и цветовые сочетания её неповторимой палитры. По сути он говорит не об английской поэзии в чистом виде, а об английской поэзии глазами автора курса.
Такой подход явно идёт вразрез c нормами и желаниям современной школы, выше всего ставящей так называемую объективность. Но требование объективности в гуманитарном знании не только утопично, но и бессмысленно. Возможно, это требование попросту вредно. Своеобразие авторской манеры и выводов, как минимум, свидетельствует о неравнодушии автора к предмету. Пресловутая «объективность» не говорит о вовлечённости автора в свой предмет ни слова. Часто, хоть и не всегда, эта «объективность» свидетельствует о другом: о готовности к дешёвому соглашательству, в данном случае к соглашательству с нормами, главенствующими в современной педагогике (современной буржуазной педагогике, должны мы добавить, коль скоро школа в России после краха советского проекта является школой именно буржуазной и давно успела заразиться большинством тех же болезней, которыми болеет и западное образование). Мы все имеем свойство забывать, что «главенствующий» применительно к любой области гуманитарного знания вовсе не обязательно означает «единственный», «самый хороший» или даже попросту «истинный» и «благой».
Второе оправдание состоит в том, что эти лекции – разговор не только о поэзии, а ещё и о том, что находится за её рамками. Человеческая культура подобна лесу: то, что кажется нам отдельными деревьями, есть часть единого живого и очень сложного организма («экосистемы», словами эколога). Или, как лучше сказал об этом Достоевский устами старца Зосимы, языком не научным, а мистическим, «всё как океан, всё течёт и соприкасается, в одном месте тронешь – в другом конце мира отдаётся»1. Пристальный взгляд на поэзию очень быстро приводит нас к созерцанию того, что находится выше поэзии: к константам человеческой интеллектуальной и духовной жизни. Осмыслять эти константы безусловно необходимо любому, кто хочет быть образованным человеком в широком смысле слова, и разговор о поэзии является для этого если не лучшим, то явно и не худшим способом.
Академическая традиция требует в начале исследования или академического цикла лекций обозначить его задачи. Одну из них мы, пожалуй, уже назвали: это осмысление постоянных категорий человеческого способа восприятия мира (включая, конечно, духовный мир – и даже восприятия духовного мира в первую очередь).
Курс называется «Английская поэзия: светские иконы прошлого», но под словом «икона» здесь совсем не обязательно имеется в виду именно священное изображение. В равной степени название курса не означает, что поэтические тексты или, скажем, портреты известных поэтов какое-то время назад являлись объектами едва ли не религиозного или уже чисто религиозного почитания (хотя для одной короткой эпохи в истории Великобритании даже это было почти правдой). Речь, скорее, пойдёт о неких базовых категориях, на которых стоит, из которых вырастает человеческое общество и культура – вся культура, включая, разумеется, и поэзию. Примерами могут быть, скажем, индивидуальное сознание чувства долга или – другой пример – ощущение безусловного присутствия в жизни человека Высшего начала. Даже последнее ощущение является именно светской иконой, коль скоро (и ровно до тех пор, пока) оно присуще не только священству, но большинству мирян (а в отдельные времена и для отдельных обществ – каждому человеку без исключения).
Оба названных примера кажутся нам сомнительными именно потому, что они не ощущаются, не наблюдаются нами в неблагой современности (если только мы не находимся, скажем, на линии фронта или в дальнем скиту). Именно поэтому мы используем выражение «иконы прошлого», что, однако, не тождественно «утраченным иконам».2 Православный богослов на этом месте, наверное, сказал бы: значение иконы никак не может быть отменено или умалено тем, что некто решил снять её со стены и поместить в тёмный чулан. Курс английской поэзии пытается ни больше ни меньше как разыскать древние изображения в тёмном чулане и поставить их на прежнем высоком месте – по крайней мере, в умах слушателей или читателей.
Вторая задача тоже была нами обозначена: это попытка передать своеобразие феномена под названием «английская поэзия» для русского читателя или слушателя. По нашему убеждению, любые такие попытки являются вкладом в строительство мостов между культурами. Но любой мост предполагает движение в обе стороны. Небольшая книга под названием Nine Talks on Russian Non-Classical Music, написанная автором несколько лет назад, являлась приглашением британской публике осмыслить нашу песенную культуру (преимущественно неклассическую, но одновременно такую, которую невозможно и неверно назвать массовой). На этот раз адресатом является русская публика, поэтому естественно эти лекции писать и произносить на русском языке.
Курс ставит перед собой ещё одну, частную и сравнительно менее важную задачу, которую, однако, нельзя назвать и маловажной. Политическое напряжение между Великобританией и Россией достигло такого накала, что любой последующий шаг может привести к прямому вооружённому конфликту. Этот накал подогревается национальными СМИ с обеих сторон: в частности, российская периодика и публицистика изображает Великобританию (и другие западные страны) не иначе как «царство победившего Содома» (тотальной слежки, воинствующего атеизма, полигона половых извращений, торжествующей культуры отмены традиции и здравого смысла – нужное подчеркнуть). С этим не то чтобы хочется спорить: факты и реалии порой достаточно красноречивы. Но в увлечении идейно-политической борьбой с «евроатлантистами» мы порой совершаем большую ошибку, ставя знак равенства между традиционной культурой Запада и тем смрадным дыханием злободневности, которое только по недоразумению претендует на имя культуры, даже если и только массовой.
Настоящий курс лекций как раз и стремится провести границу между тем и другим, пытаясь предостеречь от чёрно-белого изображения англосаксонского мира. Советский человек даже в 1941 году стремился глядеть разными глазами на немцев – политических врагов и немцев – носителей высших смыслов: на Геринга и Гейне, Геббельса и Гёте, Адольфа Эйхмана и Йозефа Эйхендорфа. В 2023 году было бы дурно отказаться от этой остроты зрения, диктуемой не только мудростью и широтой ума, но и простым здравым смыслом. Кроме того, не следует забывать, что традиция ведёт бой с трансгуманизмом по всему миру (везде, правда, с разным успехом), поэтому никакую из стран – участниц современного геополитического противостояния, не исключая ни США, ни Великобритании, ни России, не следует изображать в виде империи зла, равно как и в виде последней твердыни света.
Несколько слов о методологии курса. Каждая из последующих глав (они также существуют в форме видеоуроков) – нечто среднее между научно-популярной лекцией и эссе, с сильным уклоном в сторону эссе. Превосходная форма эссе даёт возможность не связывать себя никакими конвенциями и рамками, за исключением, конечно, требований приличий и простой логики. На протяжении следующих лекций мы будем говорить о том, что видится нам интересным или важным. Если именно форма конкретного поэтического произведения покажется важной, она, как и прочее, будет в центре нашего внимания, если нет – мы беззастенчиво отбросим всякие рассуждения о форме, чтобы тем полнее сосредоточиться на содержании.
Слово «произведение» в прошлом абзаце не случайно стоит в единственном числе: каждая лекция будет посвящена, как правило, только одному стихотворению или поэме одного из великих поэтов, писавших на английском языке. Уже было сказано, что этой курс – экземплярный, то есть выборочно демонстрирует отдельные образцы: его задача – дать не исчерпывающий обзор, а возможность «почувствовать вкус» феномена. Чтобы составить представление, к примеру, о русской кухне, нет необходимости перепробовать все русские традиционные блюда, поэтому и мы ограничимся лишь восемью очень несхожими друг с другом текстами от восьми разных авторов.
Для тех, кого смущает такой подход, оговоримся, что экземплярность не является чем-то новым ни в педагогике вообще, ни в преподавании поэзии в частности. На ум приходит, например, о. Павел Флоренский, который в «Ономатологии» (часть шестая из «У водоразделов мысли») отводит пушкинским «Цыганам» семь страниц убористым шрифтом – из этих семи больше половины посвящены анализу имени Мариулы.3 Очевидным образом припоминается статья «Два „Лесных царя“» Марины Цветаевой4 о балладе Гёте и её переводе Василием Жуковским.
Из более близкого к нам во времени невозможно не вспомнить курс из восьми лекций, прочитанный Алленом Гроссманом (англ. Allen Grossman, 1932 – 2014), американским литературным критиком, поэтом и педагогом высшей школы, 13 и 14 октября 1990 года в Джорджтаунском университете. В основе курса Гроссмана, неповторимого по уровню абстракции и полёту философской мысли, лежит та же самая методология: одно занятие на один поэтический текст – что вовсе не значит, разумеется, будто бы настоящий цикл лекций является его повторением или, к примеру, подражанием ему. В конце концов, оба курса формально соединяет только одна точка пересечения, один текст из восьми («Ода к соловью» Китса). Удивительно не малое число этих точек пересечения, а то, что такая точка вообще нашлась: подобные совпадения почти всегда случайны, учитывая огромное число очень хороших поэтических текстов, написанных на английском языке. («Да, так совпало», – как ответил некто, позвонивший в полицию и просивший спасти его от инопланетян на вопрос «Подождите, вы, что, пьяный?». Один мой коллега жаловался на чрезмерную серьёзность моих текстов: приводим этот анекдот специально для него.)
Даже в единственной «пересекающейся» теме внимательный читатель или слушатель наверняка обнаружит множественные отличия этих лекций от курса Гроссмана – и в стиле, и в содержании, и в способе изложения, и, наконец, в мыслях. Важно другое: то, что такой способ разговора о поэзии вовсе не является маргинальным, диковинным или тем более постыдным.
Но повторимся, что мы собираемся говорить не только о поэзии, даже, вероятно, не столько о поэзии. На протяжении последующих восьми лекций мы попробуем рассказать, отчего английская поэзия в своих лучших образцах долгое время служила неким подобием светских икон: компасом мысли, компасом должного поведения, наконец, компасом правильного языка и хорошего стиля. Пришёл ли этот компас в негодность? Или мы всё-таки способны вновь взять его в руки, чтобы сверять по нему наше эстетическое и даже, временами, этическое чувство? Ответы на эти два вопроса каждый должен искать сам – если, конечно, он хочет их искать, – но автор надеется на то, что ответ на второй вопрос будет положительным.
1
Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы. В 2 т. – Т. 1. – М.: Издательство «Фолио», 2000. – С. 331.
2
Об «утраченных иконах» именно в том смысле, в котором мы используем это слово, см, в частности, Williams, Rowan. Lost Icons: Reflections on Cultural Bereavement. London, New York: T&T Clark, 2000. 190 pp.
3
Флоренский. П. А. Имена. Метафизика имён в историческом освящении. Имя и личность // Сочинения в четырёх томах. – Т 3 (2). – М.: Мысль, 1999. – С. 174—181.
4
Цветаева, М. И. Два «Лесных царя» // Собрание сочинений в семи томах. – Т. 5. Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы. – М.: Эллис Лак, 1994. – С. 429.