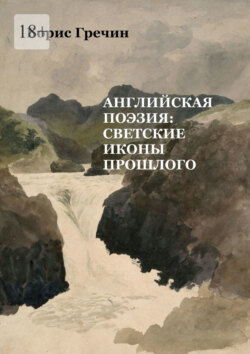Читать книгу Английская поэзия: светские иконы прошлого - - Страница 3
Уильям Блейк: «Тигр»
ОглавлениеУважаемые слушатели, мы начинаем курс с Уильяма Блейка. Стихотворение, которое мы будем разбирать, было издано в 1794 году. Итак, с формальной точки зрения мы начинаем с XVIII века.
Почему не ещё раньше, не с Шекспира, XVI век, и не с Мильтона, XVII век? Ответ простой: Шекспир хорошо известен по всему миру, в том числе и в России, он, как говорят некоторые, почти стал частью русского культурного кода – наконец, Шекспир переводился много и многими: в числе его переводчиков на русский язык есть такие звёзды нашей словесности, как Владимир Набоков, Борис Пастернак или Корней Чуковский.
Что касается Мильтона, я не оставляю желания расширить наш курс именно им – например, если следовать по стопам Гроссмана, его текстом для нашего обсуждения может быть Сонет 18 «Воздай, Господь», – и в таком случае занятие по Мильтону естественным образом встанет в самое начало курса. Но Блейк очень близок Мильтону – между прочим, он посвящает своему великому предшественнику одну из поэм, которая так и называется – «Мильтон». В этой поэме Мильтон сходит с небес на землю, чтобы открыть поэту некоторые духовные истины и пройти с ним часть пути, словно Вергилий рядом с Данте.
Да, Вергилий рядом с Данте: они оба – и Блейк, и Мильтон – творцы именно такого масштаба! Передо мной – столь тяжёлый вес, что я даже не знаю, как его поднять. Я и не буду пробовать поднять этот камень целиком: его длинные «пророческие поэмы» (англ. prophetic poems) гораздо ближе к эпосу и по справедливости должны изучаться в истории мировой литературы – или мистики. (Злые языки скажут: «В курсе психиатрии». Оставим без комментариев.) Кроме того, я не блейковед – простите это неуклюжее слово, – а для расшифровки любой из мистических поэм нужны специальные знания, точнее, отдельное многодневное, пожалуй, даже многомесячное погружение в их особый мир. Поэтому пока оставим их за скобками.
Но обо всём по порядку. В историческом смысле Уильям Блейк (англ. William Blake, 1757 – 1827) стоит на рубеже эпох, соединяет в себе английский классицизм и английский романтизм – кстати, в британском литературоведении его часто называют «предромантиком» и даже «отцом романтизма», хотя собственно романтиком Блейк, конечно, не был. (Впрочем, всё это – школьные ярлыки: не надо им очень уж верить.) В поэзии Блейка вы обнаружите и трансцендентность Уильяма Уордсворта (англ. William Wordsworth, 1770 – 1850), и последовательность, дидактизм, даже прохладу Александра Поупа (англ. Alexander Pope, 1688 – 1744).
Отступление первое. Может быть, кто-то из вас скажет, что про Александра Поупа вы и слыхом не слыхивали. Нет, не наговаривайте на себя: вы наверняка его знаете. Вы знаете его по фильму «Вечное сияние чистого разума» 2004 года с Джимом Керри и Кейт Уинслет в главной роли. Название фильма – это строка из поэмы Поупа «Элоиза. К Абеляру». Вообще, строка с её четырьмя словами говорит о философии Просвещения больше, чем энциклопедическая статья.
Вот какое соображение в связи с поэмой Поупа, о которой мы знаем только по фильму: раньше мы узнавали о поэзии из книг или от учителей, а теперь – из фильмов, то есть из феноменов популярной культуры. Некоторые из моих студентов на вопрос «Как развивать ум, как образовывать себя?» отвечают: «Надо смотреть хорошие фильмы». Что ж, ответ для нашего времени вполне себе. В эпоху постоянного непрекращающегося карнавала, вечной «телегостиной миссис Монтэг» с рубящими друг другу руки и ноги мультипликационными клоунами просмотр фильма длительностью девяносто минут – уже достижение, а иные фильмы наравне с книгами способны нам сказать о чём-то важном. Но, что характерно, ответ «Надо читать хорошие книги» за последние два года не дал, кажется, ни один. Наш курс имеет подзаголовок «Светские иконы прошлого». Вот и одна из этих икон: культура чтения – не чтения короткой новостной заметки в социальной сети, а осмысленного и долгого чтения. Чем одно принципиально отличается от другого? Почему быть грамотным ещё не означает уметь читать? Первый вопрос для обсуждения.
Позиция Блейка между Поупом и Уордсвортом на временной шкале вовсе не означает, будто он сводится к тому, чтобы быть мостом между ними, завершителем одной литературной традиции и зачинателем другой. В британской культуре Блейк стоит совершенно особняком, как некий свалившийся с неба метеорит, чёрный обелиск, Кааба – и достаточно немногочисленные поклонники его творчества совершают хадж вокруг этой Каабы, а другие всего лишь глядят на неё издали, не решаясь подойти поближе, торопливо ей кланяются и бегут по своим мелким делам.
Современные рекламщики, пытаясь найти новых клиентов, часто используют термин «анти» в сочетаниях вроде «антикафе» и пр.: мол, наше кафе – это не какой-то банальный ресторан для буржуа, у нас всё-всё по-другому: и настольные игры, и полочка с книгами – читай не хочу, – и древняя радиола в углу, поэтому по отношению к обычным прозаическим кафе мы примерно то же, что антиматерия – к материи. (Так и хочется здесь использовать анекдот про один орган человеческого тела и его вид сбоку… Хорошо, считайте, что я этого не говорил.) Слова от такого бессовестного употребления снашиваются, истираются. Чем мы будем говорить, когда продажники сотрут в порошок изначальный смысл всех слов? Это рассуждение – вот к чему: к Блейку приставка «анти» применима с гораздо большим основанием, чем к едальне с радиолой и книжной полкой на стене. Он – антипоэт, потому хотя бы, что движение его ума совершается курсом, противоположным обычному: не от поэтического – к духовному, а от духовного – к поэтическому. Он не только огромен, но и колоссально неудобен, потому что ломает привычные рамки и способы разговора о поэзии – ну, или о религии, если мы считаем, что Блейк – «про неё» в первую очередь, то есть про религию в широком смысле слова: про духовный мир, само существование которого и рождает религию.
В результате корпус его текстов – «это наименее читаемый корпус [текстов] в английской поэзии в пропорции к его достоинствам»5, как блестяще сказал о нём канадский литературовед Герман Нортроп Фрай (англ. Herman Northrop Frye, 1912 – 1991).
Блейка можно сравнить – уже сравнивали до меня – с русским православным мистиком Даниилом Андреевым. Слово «православный» я использую с осторожностью: Андреев – «православный мистик» ровно в той же мере, в какой Боэций в «Утешении философией» – «христианский философ». Даниил Андреев был православным человеком, и он же был мистиком, поэтому характеристика безошибочна с формальной точки зрения, но в данном случае слагаемые не производят суммы. Определение «русский писатель» применительно к нему является столь же формально верным и таким же бессодержательным, как и «православный мистик». Несколько лет назад в книжном магазине я случайно обнаружил «Розу мира» в одном из новых изданий с подзаголовком «роман». Какой же это «роман», с позволения сказать? Главная книга Андреева – не больше роман, чем «Божественная комедия» – комедия в современном смысле: это жанровое определение последней раз за разом горько разочаровывает школьников, которые в начале изучения темы наивно надеются, будто им предлагают средневековую версию «Тупого и ещё тупее», или что там сейчас считается образцом комедии.
Как и «Роза мира», Блейк не умещается ни в один жанр; как и Даниил Андреев, он является камнем преткновения для церкви, в лоне которой родился, для христианства вообще. Что с ними делать, как к ним относиться? Притвориться, что они мелки, ничтожны, не стоят разговора? Не получается. Объявить их сочинения «сладкой сказкой, которую Бог нашептал страдающему поэту в тюрьме»? В случае Блейка не выйдет: он не сидел в тюрьме. Анафематствовать, может быть?
В отношении Блейка такое решение напрашивается само собой – английский поэт был открыто враждебен Церкви, рассуждая о «дураках, что попались религии в сети».6 Думаю, не один архиепископ чесал себе затылок, размышляя, как бы поднять вопрос об отлучении от Церкви этого остроумца…
Но не вышло. Во-первых, Англиканская церковь и в принципе не спешила с экскоммуникациями, руководствуясь принципом «Тише едешь – дальше будешь». Если я только не ошибаюсь – верней, если не ошибается сетевая энциклопедия, – то за всю историю англиканства отлучено от Церкви было всего лишь восемь человек.7 Во-вторых, Блейк после смерти стал кем-то вроде национального героя. Рискую предположить, что это могло случиться по одной-единственной причине: из-за стихотворения «На этот горный склон крутой…» (англ. And Deed Those Feet in Ancient Time), которое превратилось в неофициальный гимн Англии. Оно более известно как «Иерусалим» (не путать с одноимённой эпической поэмой). Вы почти наверняка слышали переложение этого текста на музыку Хьюберта Пэрри (англ. Sir Charles Hubert Hastings Parry, 1848—1918), скорее всего – в оркестровке Эдварда Элгара. Оно, стихотворение, очень английское, очень национальное, очень боевое – примерно как «Бородино» для нас, русских, только короче. Нет нужды говорить, что оно льстит национальному духу британцев: сейчас как возьмём копьё и меч да как построим рай Божий на отдельно взятом острове! Народы любят, когда им льстят, и оттого предать анафеме Блейка для англичанина психологически невозможно, каких бы гадостей про Церковь он ни наговорил. Ведь что же выйдет, если так сделать: это безбожник пророчествовал о том, что мы «возведём Ерусалим // В зелёной Англии родной», и не возведём мы его никогда вовсе? Совершенно невозможно…
Отступление второе. Именно здесь уместно было бы привести «Ерусалим», то есть перевод С. Я. Маршака, полностью, что и было сделано в первом издании этой книги. Но с момента смерти С. Я. Маршака прошло меньше семидесяти лет, оттого на использование текста его перевода требуется разрешение правообладателя. Читатель напрасно будет говорить мне об абсурдности получения разрешения на текст, который несложно найти в Сети (что я и предлагаю ему сделать). Оригинал же стихотворения можно прочитать в сноске.8
Текст хоть и простой, но потрясающий по своей силе. Я едва было не взял его для нашего анализа вместо «Тигра». Меня остановила его чуть меньшая известность и чуть большая линейность.
Блейк родился в 1757 году в семье лондонского чулочных дел мастера. Он рано обнаружил талант к живописи и ещё в детстве начал делать гравюрные копии известных мастеров. Копии он продавал и этим улучшал общий доход семьи. Видимо, по этой причине мальчика отдали не в общеобразовательную школу, а на рисовальные классы: кто же режет курицу, несущую золотые яйца! Второй причиной было то, что Блейк (в десять лет!) настоял на этом сам.
С четырнадцати лет подросток учился в качестве подмастерья гравёра Джеймса Бэзира (англ. James Basire), после окончания семилетнего срока он становится мастером. Своё обучение он, уже в звании мастера, завершает в Королевской академии художеств, в которой бунтует против «косных стариков». Вы ведь уже поняли, какой это был прямой и необузданный человек, правда? Сохранилась запись о его участии в так называемом Гордонском бунте (англ. Gordon Riots) 1780 года, направленном против усиления политических позиций католиков. Вспоминается в этой связи и наше всё, Александр Сергеевич Пушкин, который на вопрос Государя «Где бы ты был 14-го декабря, если бы был в городе?» браво ответил: «На Сенатской площади, Ваше Величество!»9 Что ж, «кто не бунтовал в юности, у того нет сердца, – говорит известная пословица, правда, добавляя: – У того, кто не стал консерватором в старости, нет мозгов».
Кстати, беспорядки были беспощадно подавлены армией, а их подстрекателя, парламентария Джорджа Гордона (англ. Lord George Gordon, 1753 – 1791), спустя шесть лет всё-таки отлучили от Церкви.
В 1781 году двадцатитрёхлетний Блейк женится на восемнадцатилетней Кэтрин Райт (англ. Catherine Wright). Невеста неграмотна – вместо подписи она поставит крест в церковной метрике. В дальнейшем поэт научит свою жену читать, писать, раскрашивать гравюры и даже работать на печатном прессе. Удивительно гармоничный брак, несмотря на ранние бурные годы.
Я забыл сказать, что поэт открывает свою типографию. В дальнейшем эта типография в основном будет обслуживать самого Блейка, печатая его собственные поэмы, которые он будет самостоятельно иллюстрировать, вручную раскрашивать и продавать, что обеспечит ему если не роскошную жизнь, то безбедное буржуазное существование. Если вы полагаете, что текст поэм набирался из типографских литер, вы ошибаетесь. Точно так же, как и рисунки, текст каждой отдельной страницы поэт гравирует вручную.
Обратите внимание на слово Whoredoms (нечто вроде «блудодейства»)! Оно не влезло в строку и заворачивается вверх, примерно так же, как современный школьник может завернуть строчку в тетради. (Про «современный» я, наверное, преувеличил.)
Блейк, как вы поняли, не только поэт – он графический иллюстратор своих книг, он также художник с собственным неповторимым стилем, причём выдающийся художник: его иллюстрации к «Божественной комедии» имеют самостоятельное значение. Он – мистик, при этом редчайший в мировой истории (возможно, единственный) пример мистика-ремесленника, даже мистика-техника. В конце концов, дело гравёра – сложная профессия, а гравировальный станок, даже ручной, – непростое оборудование.
Отступление третье. Думаю, существует нечто вроде «теста на мистика», позволяющего оценить степень терпимости каждой конкретной страны к духовной культуре. Возьмём для примера Британию самого начала XIX века, Советский Союз и сегодняшнюю Россию в свете их отношения к собственным мистикам. Англия своего буйного подданного, вероятно, слегка страшилась, но в любом случае позволила ему жить честной жизнью среднего буржуа и даже зарабатывать деньги своим талантом (в 1800 году Блейк покупает на собственные сбережения двухэтажный кирпичный дом в Фэлпеме, где проживёт примерно четыре года). Даниил Андреев к концу жизни не имел даже собственной комнаты. Но, как бы то ни было, он существовал – и сумел закончить свой opus magnum. Судить, как прошла этот тест современная Россия, пока сложно: мистики редко становятся известны при жизни. Но создаётся впечатление, что Россия наших дней к мистикам бесконечно равнодушна. Она не помешает им жить и творить, буде они появятся – она их просто не заметит, посчитав в лучшем случае неопасными сумасшедшими, точнее, не увидев никакой разницы между теми и другими. Духовный климат не тот, причём не «государственный», а именно общественный климат. Вот и вопрос: отчего современное российское общество равнодушно к мистицизму?
Надеюсь, все слушатели и читатели понимают разницу между религиозным мистицизмом и бессовестной эксплуатацией человеческого суеверия в стиле «Потомственная ведунья Анастасия снимет и наведёт порчу»?
Взгляните, к примеру, на страницу 32 из поэмы «Мильтон» (это так называемый «экземпляр А», сейчас он хранится в Британском музее). Нижняя часть страницы – рисунок (о нём поговорим отдельно).
Илл. 1. «Мильтон», стр. 32. Экземпляр А, Британский музей
Выше мы назвали «Мильтон» поэмой. Хоть Блейк и сам даёт тексту такой подзаголовок (полное название – Milton: A Poem), определение ошибочно – или, как минимум, почти ни о чём не говорит. «Мильтон» – это иллюстрированный прозаико-поэтический мистический эпос. Он входит в число так называемых «пророческих книг» (англ. prophetic books), которые за свою жизнь Блейк написал и издал целую дюжину. Среди других подобных эпосов – «Книга Тэль», «Книга Уризена», «Книга Лос», «Вала, или Четыре Зоа». Любой человек, прочитавший «Розу мира» Даниила Андреевна, наверняка знаком с диковинными именами и названиями (вроде «Олирна», «Навна», «уицраор», «игвы», «раругги» и пр.), которые выпрыгивают на читателя откуда ни возьмись и к которым он, читатель, не знает, как относиться. (Вероятно, следует или полностью верить им и тому, что эти названия в обиходе у жителей иных миров, – или, наоборот, не верить и считать сказкой, которую «Бог нашептал поэту на ухо». )
Отступление четвёртое. Всё же кто такой Блейк – мистик или фантазёр? Или, если слово «фантазёр» звучит пренебрежительно, то – «большой поэт, создавший свою собственную литературную вселенную», некто вроде Джона Толкиена (1892 – 1973), автора «Властелина колец» и «Сильмариллиона», в которых ведь тоже немало причудливых названий? Я… не знаю, как отвечать на этот вопрос. Я склоняюсь к первому ответу, но при этом прекрасно понимаю, что такой ответ совершенно бездоказателен.
Впрочем, у меня есть одно личное доказательство. В молодости ваш покорный слуга написал фантастическую повесть о девушке-подростке с причудливым именем, изначально жившей в ином мире, но воплотившейся на земле. Хоть повесть и фантастическая, но в существовании этой девушки я был уверен абсолютно. Кто только не пишет фантастических повестей в молодости! Не следовало бы и вспоминать её, если бы недавно я с изумлением не обнаружил у Блейка то же самое имя, записанное английскими буквами. То же самое – только русское «т» превратилось в английское межзубное th.
Мне скажут, что это моё субъективное «доказательство» ничего не доказывает. Само собой.
А если подумать шире: где граница между литературной фантазией и религиозным мистицизмом? Вероятно, эта граница существует – но уж едва ли она представляет из себя чётко очерченную линию или, тем более, бетонный забор. Ведь и мистики пользуются «глазами фантазии». Мистик подобен кроту, у которого, в отличие от его сородичей, вдруг открываются заросшие глаза. И всё же эти глаза над поверхностью видят лишь отдельные цветовые пятна, а сигналы об этих пятнах поступают в мозг, никак к этим сигналам не приспособленный, да и не знающий, с чем сравнить эти пятна в повседневном опыте жизни под землёй, где нет никаких цветов. Оттого использование фантазии мистиком становится почти неизбежным.
Чтение любой из пророческих книг Блейка – примерно такой же опыт, что и чтение «Розы мира», с той разницей, что текст гравюр, хоть и отчётливый, сложнее разбирать. А если читать поэму не по гравюрам, теряются не только смыслы, вложенные в иллюстрации, но и упругая энергия текста.
Давайте вновь рассмотрим иллюстрацию на странице 32 «Мильтона», в этот раз – рисунок. Перед нами – нечто вроде христианско-мистической мандалы: четыре пересекающихся сферы, которым даны следующие имена:
Уртона (верхняя)
Уризен (нижняя)
Тармас (левая)
Лува (правая)
В их пересечении – «Сфера Земли», верхняя половина которой названа Адамом а нижняя – Сатаной.
Уризен в «мифологии» Блейка, как её обычно называют, – это принцип разума, а также нечто вроде гностического демиурга, «злого бога» (падшего Денницы). Тармас в той же мифологии – сила, в том числе половая (сам поэт сопоставлял её с Богом-Отцом). Лува – любовь, страсть, чувства (а также «Бог-Сын»). Уртона – вдохновение и фантазия («Бог-Святой Дух»). Все эти четыре имеют родовое название «зоа» (ед. и мн. ч.). Теперь у нас есть некое подобие ключа. Но знаете ли вы даже с этим ключом, как толковать эту мандалу? Я – понятия не имею. Верней, я могу предположить, что в человеке (Адаме) есть и божественное (Уртона), и сатанинское (Уризен), а [земной] Сатана, который рождается на пересечении Адама и Земного демиурга, невольно вызывает в памяти слова Чёрта из «Карамазовых»: «Сатана sum, et nihil humanum a me alenium puto»10. Но это всего лишь мои догадки. Справедливы ли они? Может быть – да, а может быть, такое толкование ничтожно, и Блейк совсем не это имел в виду. Нам не у кого спросить! Это только самому Блейку явился с небес Мильтон, чтобы разъяснить некие истины – то ли вправду, то ли исключительно в поэтической фантазии…
Отступление пятое. Что, если это правда? Что, если дух покойного Мильтона действительно сошёл с небес (что бы ни понимать под этим словом) и временно угнездился в создании Блейка, чтобы в «творческом тандеме» с художником написать поэму? Надеюсь, читатель не считает, будто я настаиваю на такой версии. Если на ней настаивать слишком энергично, можно, пожалуй, отправиться в то самое заведение, куда наиболее скептические читатели и слушатели этой лекции, вероятно, давно уже хотели бы спровадить самого Блейка, тем самым избавив их от мучительной необходимости слушать про Уртону и Уризена.
Именно поэтому мне приходится оставить за рамками этой лекции серьёзное погружение в одну из пророческих книг. Да, спору нет, они – самое значимое из созданного поэтом, но у меня есть право это сделать, ведь ни «Мильтон», ни, к примеру, «Потерянный рай» самого Мильтона не являются поэмами в точном смысле слова. Кроме того, нет возможности в ходе занятия прочитать вслух ни одну из них целиком. Пришлось бы пересказывать – но как пересказывать?
Оттого переходим к «Тигру». «Тигр» – почти наверняка не самое значимое произведение Блейка, хотя бы с точки зрения объёма – но, если не ошибаюсь, самое известное. В списке «Двадцати великих шедевров [английской литературы]», составленных Джошуа Вайнером, оно стоит на пятом месте.11 Вероятно, вполне заслуженно. Стихотворение входит в цикл «Песни невинности и опыта», оно было размножено Блейком обычным для него способом гравировки. Взгляните, кстати, на копию одного из первых экземпляров.
Немного личных воспоминаний. «Тигр» – это второе по счёту произведение классической английской поэзии, с которым я познакомился в детстве (в переводе Маршака, конечно). В десять лет я открыл для себя книжную серию «Библиотека современной фантастики» (белые и розовые обложки; сетевая энциклопедия подсказывает мне, что издавала эту серию «Молодая гвардия» в 1965 – 1973 годах) и прочитал её всю года за два. В одном из томов была напечатана повесть американского автора армянского происхождения Уильяма Сарояна (англ. William Saroyan, 1908 – 1981) под названием «Тигр Тома Трейси» (англ. Tracy’s Tiger), а этой повести был предпослан эпиграф из Блейка – стихотворение полностью. Не буду вас обманывать и рассказывать вам, будто я полночи не спал и всё твердил строчки Блейка наизусть. Ничего такого не произошло – но я был восхищён этим стихотворением, его мощью, его волшебностью, его инаковостью.
Стихотворение действительно не похоже ни на кого, кроме самого Блейка. Впрочем, судите сами. Я выбирал из пяти существующих переводов, и прочитать его именно в переводе Маршака мне очень хотелось. С точки зрения литературной формы этот перевод, пожалуй, лучший. И всё же в итоге я склонился к переводу Смирнова-Садовского. Дмитрий Николаевич Смирнов (1948 – 2020), писавший под псевдонимом Смирнов-Садовский – это русско-британский композитор и переводчик. Есть два соображения, по которым версию Смирнова имеет смысл предпочесть. Соображение первое, формальное: перевод Маршака длиннее оригинала на одну строфу. Соображение второе, сущностное: Маршак устраняет все отсылки к христианству (например, Агнец становится у него ягнёнком).
Здесь в первом издании был помещён перевод «Тигра» Д. Н. Смирновым-Садовским. С момента смерти переводчика прошло менее семидесяти лет, оттого мы были вынуждены удалить перевод по требованию издательской платформы. Впрочем, сноску на него оставить не возбраняется.12
Илл. 2. Иллюстрация Уильяма Блейка к «Тигру». «Песни невинности и опыта», с. 36. Экземпляр L
Потрясающий текст, правда? На меня он производит примерно то же впечатление, которое, помнится, произвёл настоящий тигр, увиденный вживую (в зоопарке): на глаза он ещё не показался, а я уже ощутил присутствие некоей грозной и прекрасной силы. Но – и, видимо, это норма для поэтов-мистиков – текст вызывает гораздо больше вопросов, чем он даёт ответов.
Прежде всего, почему «сполох огневой» (у Маршака «светло горящий», в оригинале – burning bright)? Тигры ведь не горят… Помнится, в мои одиннадцать лет эта строчка своей полной убедительностью не вызывала никаких вопросов. Но разве не естественно спросить? (Кстати, считайте это одним из вопросов для обсуждения.) Вообще, это – безупречный пример того, как вольно мистицизм (и философия) обходится со словами. Оба говорят о несказанном, о тех феноменах – скорее, впрочем, ноуменах или прафеноменах – которые мы не можем воспринимать органами чувств. В языке нет точных слов, соответствующих этим духовным феноменам, придуманных специально для их обозначения, оттого мистику или философу приходится использовать ближайшие похожие, даже если они взяты несколько наобум. При разговоре о том, что находится за пределами нашего эмпирического, позитивистского сознания, всё является своего рода местоимением и ничто – существительным.
(«Да, – возразят мне, – но ведь тигр – это не ноумен, а вполне себе материальное животное из мяса и костей!» Применительно к тигру Блейка я не был бы в этом уверен полностью, о чём, вероятно, ещё скажу.)
А вот ещё вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на структуру текста. Он состоит из тринадцати предложений разной длины, и все они – вопросительные. (Правда, в переводе Смирнова первые две строчки оканчиваются восклицательным знаком, но в оригинале в конце второй строки стоит точка с запятой.) Кто создал тебя? Где горело пламя твоих глазах? На каких крылах парил твой творец? И так далее, всего – тринадцать вопросов и ни одного ответа! Почему? Что это – опасение нападок со стороны Церкви? Вероятно, нет: с Церковью Блейк, как нам уже известно, никогда не церемонился… Я не знаю с достоверностью, отчего это именно так. Я рискую предположить, что не знает и автор. Или же он знает – и даёт нам право дать свой ответ, ту самую свободу, которая является тяжким бременем.
Здесь следовало бы снова немного порассуждать о мистицизме как методе познания. Ни один мистик не даст нам абсолютного, полного ручательства в том, что достоверно описывает вне-земную реальность. И даже если нам дано такое ручательство, не стоит спешить ему доверять. В конце концов, возможна почти любая проекция трёхмерной фигуры на плоскость, но считать, будто такая фигура исчерпывающе описывает оригинал, было бы более чем наивно…
Вероятно, пока мы остаёмся в рамках христианского мировоззрения, ответов на вопросы Блейка может быть лишь два. Тигра создал или Бог, или Дьявол. (Впрочем, я не спешил бы защищать ни одну из этих плоских мыслей, и после попробую объяснить, почему.) Некто А. Глебовская считает, к примеру, что поэт подталкивает нас именно ко второму ответу.13 Напротив, Алексей Матвеевич Зверев, ссылаясь на Сэмюэла Фостера Дэмона (англ. Samuel Foster Damon, 1893 – 1971), американского поэта, литературного критика и специалиста по Блейку, утверждает, будто «Тигр символизирует <…> очистительную энергию, необходимую, чтобы сокрушить заблуждения и зло мира <…> и проложить путь к свету через темные заросли людских самообманов и жестокостей, составляющих сущность современного бытия»14.
Для меня ни та, ни другая мысль («Тигр – создание Сатаны» и «Тигр – борец со злом») не очевидны. Но какие бы мы ответы ни давали на вопросы стихотворения, один из ответов имеет смысл точно исключить. Какой именно? Естественнонаучный, дарвиновский: «Тигра, как и любой другой биологический вид, создала природа, эволюция, естественный отбор и борьба за существование. О, разумеется, книга «О происхождении видов» была опубликована в 1859 году, и чисто технически Блейк никак не мог читать главный труд Чарльза Дарвина. Но думать, что люди не задумывались о происхождении видов до Дарвина, фантастически наивно: люди выводят породы собак и занимаются селекцией растений едва ли не столько же, сколько существует человечество. Я просто убеждён, что Блейк прекрасно знал, как именно появились тигры, – как знал он и то, что они не горят. Но ответ Дарвина – банален, да и вопрос ведь не о биологии.
Думаю, что указание на биологические причины появления вида panthera tigris семейства кошачьих вызвало бы у поэта только улыбку. Сказать Блейку: «Тигра создала эволюция» – то же самое, что сказать ему: «Ваше стихотворение было создано вовсе не вами, а скоплением атомов, которые, так вышло, сложились в молекулы, эти молекулы – в клетки вашего тела, после же химические реакции и электрические процессы в теле и мозге и привели к написанию стихотворения. Вы здесь совершенно ни при чём!» Принципиальный вопрос не только для мистика, но для любого из нас таков: стоят ли за любыми событиями некие духовные феномены, или всё, что происходит на земле, сводимо к чисто материальным факторам? При положительном ответе на этот вопрос теория Дарвина, разумеется, никак не отменяется – она просто перестаёт быть сколько-нибудь значимой. (Кстати, почему?)
Сразу хотел бы озадачить вас и ещё кое-чем. Все тринадцать вопросов, из которых состоит стихотворение, так или иначе повторяют друг друга – но всё же два из них стоят особняком. Это – вопросы 11 и 12.
Улыбнулся ли Он [Творец], увидев свой труд?
[Неужели] тот, кто создал Агнца, создал [и] тебя?
Агнец – Христос. Тигр – хищник, убийца. Перефразируя: создал ли Бог и добро, и зло? А если оба начала создал Бог, вышло ли это нарочно или в ходе некоей трагической случайности, глубоко огорчившей Творца?
В этих двух строчках заключены как минимум две серьёзные философские проблемы. Первая из них – проблема теодицеи. Если Бог – создатель всего (а таково официальное христианское учение), Он создал и зло, а раз так, Его нельзя назвать всеблагим. Если же зло было создано Дьяволом при попустительстве Бога, Бог – не всемогущ. (Это, разумеется, очень упрощённое изложение, и даже боюсь, что моё чрезмерное упрощение граничит с неправильностью.)
Вторая проблема – это несоответствие содержания и формы, или этики и эстетики, если угодно. Как совместить «жестокость» тигра – как минимум, его хищную природу, – и его грозную красоту? Хотел бы этот второй вопрос задать вам.
Повторюсь: мне не кажется, что «Тигр» даёт ответы на только что заданный вопрос. В стихотворении – как и в поэзии Блейка вообще – проявляется очень важное свойство его творчества. Поэт – мистик, но не моралист. Он не читает нам проповеди на тему того, что тигр жесток, но прекрасен как Божья тварь, и оттого следует возлюбить даже хищников, или, напротив, о том, что тигр прекрасен, но жесток, а оттого нужно беречься различных «социальных тигриц», которые покушаются на наш кошелёк, или на любую другую достохвальную тему. Он бесстрашно исследует предельные смыслы и важнейшие вопросы, на которые ни один философ не дал окончательных ответов. Это поведение открывателя новых горизонтов («учёного», сказали бы мы, если бы не боялись, что нас не поймут), но никак не клирика или, например, не школьного учителя.
Отступление шестое. Блейк образца 1794 года не даёт ответов на вопросы «Тигра». Может быть, их даст Блейк образца 1811 года?
«Тропа Мильтона» – та самая христианская мандала, которую мы уже рассматривали – указывает на существование четырёх вселенских начал. Агнца как будто можно отождествить с Лувой, любовью, и даже со Христом. Тигра – с Тармасом, волей. Дихотомия Агнец-Тигр оказывается не противопоставлением света и тьмы, не вертикальной дихотомией «добро-зло». Это – горизонтальная, то есть в буквальном смысле слова перпендикулярная первой дихотомия. В русском языке слово «перпендикулярный» относительно недавно стало использоваться в дополнительном значении «несоразмерный», «нерядоположенный». На странице 32 прижизненного издания «Мильтона», мы словно видим живую иллюстрацию этого дополнительного значения.
Последний вопрос, прежде чем мы закончим (я вижу, что вы уже устали). О чём или о ком – это стихотворение? «О тигре, конечно, – ответите вы. – Что ещё за глупости?» Всё так… только английское слово «тигр» пишется через i. Блейк пишет название своего текста через y: The Tyger. Слово «Тхигр» или «Тигхр» на русском языке производит то же впечатление, что и The Tyger на английском: то, да не то. О, я хорошо знаю, чтó вы мне возразите: перед нами – просто устаревшая форма слова. Да и как можно сомневаться в том, что перед нами именно животное, если Блейк сам добавил иллюстрацию, и на ней – вполне обычный земной тигр (симпатичный такой, он даже улыбается)?
Конечно, конечно… Но отчего мы так уверены, что Блейк не пустил нас по ложному следу, не ввёл в заблуждение? Даже и не так: не замаскировал истину в ворохе осенних листьев? Для профанов – тигр (и картинка в подтверждение того, что речь – о чём-то, доступном нашему опыту и потому сравнительно безобидном). Для знающих – таинственный и жуткий Тхигр: возможно, конкретное духовное существо – эманация одной из зоа, и/или некий архетип. Кстати, что есть архетип? Не спешите отвечать на тот вопрос: мне ведь нужно не словарное определение. Вот что я имею в виду: имеют ли архетипы некое самостоятельное существование, бытие «со своей стороны», бытие-в-себе?
Как бы вы ни ответили, я тороплюсь закончить лекцию, которая уже стала неприлично долгой (предчувствую, что и следующие будут немногим короче). Мы часто запоминаемся по самой яркой нашей черте. Может быть, есть некий смысл в том, что «Тигр» Блейка – не самый значимый его текст – стал тем не менее самым известным его произведением. Блейк сам подобен своему творению. Он сам – словно тигр, «светло горящий» в лесу английской литературы. К нему и жутко, и есть соблазн подойти ближе, он страшен, но притягателен. Так и хочется воскликнуть вслед за поэтом, подражая ему:
Блейк, о Блейк, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой,
Соразмерный образ твой?
Но, разумеется, он не даст нам ответа. Тигр не умеет говорить на человеческом языке. Он умеет только рычать – но, когда он рычит, его рык разносится далеко за пределами его собственного мира.
5
[His work is] in proportion to its merits the least read body of poetry in the English language. [Northrop Frye and Robert D. Denham, Collected Works of Northrop Frye (2006), 11—12.]
6
Блейк, Уильям. Вопрос и ответ. // Стихотворения. / Пер. с англ. С. Я Маршака. – Режим доступа: lib.ru/POEZIQ/BLAKE/stihi_marsh. txt – Дата обращения: 22 июня 2023 г.
Ниже – полный текст английского варианта этого двустишия.
XLII LACEDEMONIAN INSTRUCTION
Come hither, my boy, tell me what thou seest there? – A fool tangled in a religious snare.
[William Blake, Poems from the Notebook, in Blake: The Complete Poems, ed. W. H. Stevenson (London and New York: Routledge, 2007), 170.]
7
Вот их список: Джон Блэкистон, Джон Коленсо, Роберт Кашмен, Джордж Гордон, Оливер Хэйвуд, Томас Квини, Фрэнсис Мэдоу Сатклифф, Генри Уилкинсон. Блейка в этом списке нет (прим. авт.). [«People excommunicated by the Church of England,» June 23, 2023, Wikipedia, htts://en.wikipedia.org/wiki/Category: People_excommunicated_by_the_Church_of_England.]
8
См. Блейк, Уильям. Ерусалим. // Стихотворения. / Пер. с англ. С. Я Маршака. – Режим доступа: lib.ru/POEZIQ/BLAKE/stihi_marsh. txt – Дата обращения: 22 июня 2023 г. Текст оригинала ниже.
And did those feet in ancient time
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!
And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?
Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land.
[William Blake, «Jerusalem,» Poetry Foundation, June 23, 2023, https://www.poetryfoundation.org/poems/54684/jerusalem-and-did-those-feet-in-ancient-time.]
9
Цветаева, М. И. Пушкин и Пугачёв. – URL: www.tsvetayeva.com/prose/pr_pushkin_i_pugachev – Дата обращения: 23 июня 2023 г.
10
«Я Сатана, и ничто человеческое мне не чуждо» (рус. и лат. искаж., прим. авт.). [Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 3, 4. – М.: Мир книги, Литература, 2008. – С. 311.]
11
Joshua Weiner, Hit Singles, Poetry Foundation, June 22, 2023, https://www.poetryfoundation.org/articles/68445/hit-singles.
12
Блейк, Уильям. Тигр / Пер. с англ. Д. Н. Смирнова-Садовского. – Режим доступа: https://wikilivres.ru/Тигр_(Блейк/Смирнов) – Дата обращения: 22 июня 2023 г.
13
«Кто создал Тигра, Бог или Диавол, какой огонь, небес или преисподней, горит в его очах – вот основной вопрос стихотворения. Блейк не дает прямого ответа, но ходом своей мысли подталкивает читателя к этому ответу: Тигра создал не кто иной, как Диавол, который, следовательно, является Творцом наравне с Богом». [Комментарий к Блейку/Песни опыта/Тигр. – Режим доступа: https://wikilivres.ru/Комментарий_к_Блейку/Песни_опыта/Тигр – Дата обращения: 22 июня 2023 г.]
14
Там же.