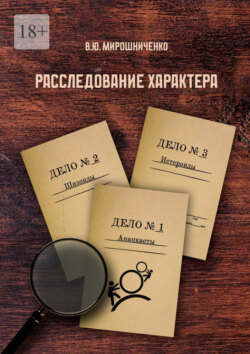Читать книгу Расследование характера - - Страница 11
Дело об ананкастах
Предварительные размышления
ОглавлениеУлика наличия проблем в сексе свидетельствует о том, что ананкасты часто воспринимают сферу сексуальности в определённом негативном свете. Как такое возможно, если секс – это удовольствие? Ответ: возможно, когда получение удовольствия вступает в конфликт с другими потребностями. Суть конфликта интересов для ананкастов, как людей склонных к чрезмерному подчинению диктату морали и социальным требованиям, достаточно очевидна.
Даже не обладая теоретическими знаниями в психологии, люди способны интерпретировать поведение человека в понятиях направленности его на удовлетворение личных потребностей (эгоистических) или на удовлетворение потребностей других (альтруистических, общественных). При этом показательно, что в обществе эгоистические потребности часто заслуживают порицание, а эпитет «эгоист», несмотря на все протесты психологов, используется в качестве ругательного. Конкуренция и конфликт эгоистических потребностей и потребностей общества здесь налицо2.
Положение дел таково, что в любом биологическом удовольствии непосредственно присутствует эгоистический момент: индивид что-то получает сугубо для себя в обход общественным интересам. Он не направляет имеющиеся у него ресурсы их на «полезную работу» поддержания социальных связей и структур. Поэтому общественное мнение и социальные институты всегда очень ревностно относятся к удовлетворению потребностей, приносящим человеку большое удовольствие, особенно, к формам удовольствия, достигаемым вне и помимо общества.
Стоит ли удивляться, что именно сексуальным потребностям досталось от общества по полной программе. «Маленькой смертью» (la petite mort) называют французы пик сексуального удовольствия с оргастической разрядкой. По всей видимости, общество интуитивно воспринимает это мощное переживание удовольствия в качестве выражения некой временной символической смерти социального контроля и достижения личной независимости.
Особенно преуспели в ограничении сексуальности религиозные предписания. Книга Д. Кон-Шербока, Д. Д. Крайссайдса, Д. Эль-Алами «Истинная вера, правильный секс. Сексуальность в иудаизме, христианстве и исламе» наглядно иллюстрирует до какого абсурда и комичности может дойти регламентация секса в вероучениях. Религиозная мораль готова без устали и до предельной мелочности генерировать условные нормы – кому, с кем, когда, где, как и сколько. В тех же конфессиях, в которых сексуальное влечение получает ярлык порочности и греховности, ограничения могут становиться крайне садистическими.
В ущемлении свободы выражения сексуальных и других эгоистических потребностей со стороны социума по отношению к человеку нет какой-то злонамеренности. Так срабатывает общественный инстинкт самосохранения. Дело в том, что индивидуум не является неисчерпаемым ресурсом. Если где-то в его активности прибыло, то где-то убыло. Для поддержания социальных институтов нужна энергия, затраченная работа. Поэтому общество встраивается в психическую экономику человека и предписывает ему откладывать достижение личных интересов на потом. При этом удовлетворение эгоистических желаний не полностью воспрещается, а допускается через опосредованные социальные звенья. Человек имеет право на удовольствие, но лишь как награду за правильно прожитую общественную жизнь, напряжённый труд и добрые альтруистические поступки.
Обычно в противоречии эгоистического и общественного, в конфликте «хочу» и «должен» здоровые люди находят оптимальный компромисс: «кесарю – кесарево», а «себе – своё». Даже формула золотого альтруистического правила «Делай людям то, что ты хочешь получить от них для себя», включает эгоистический компонент – необходимость получить что-то для себя. Но ананкасты на такие компромиссы плохо способны.
Насколько сильно ананкасты ограничивают свои эгоистические потребности наглядно проявляется в их неспособности к расслаблению и отдыху. Состояние лености или ситуация отсутствия насущных дел создают благоприятные условия для снижения волевого самоконтроля и релаксации. Но в ту же минуту обсессивное сознание настойчиво атакуют тревожные мысли и чувство вины за попусту растрачиваемое время. Ананкасты начинают смутно подозревать, что совершается нечто недопустимое: они посвятили досуг исключительно для себя, осмелились делать то, что «хочется», а не то, что «нужно». Безделье немедленно прерывается и они бегут прочь от малейшего эгоизма в тотальный трудоголизм.
Только благоприятное разрешение конфликтов на анальной стадии психосексуального развития по Э. Эриксону приводит к устойчивой формуле идентичности – «Я есть то, чего я могу свободно желать». В противном случае стыд и сомнение подавляют свободу самовыражения и ведут к формированию обсессивной личности. В её картине мира нет чёткого различения «должного» от «желанного» и, следовательно, нет выбора. Если должное становится равным «хочу», то человек перестаёт чувствовать себя, утрачивает способность разграничивать свои и чужие потребности и со временем всё дальше уходит от своего подлинного Я.
Для многих навязчивых людей характерно мышление в понятиях «нужно» и «должен». Этот примитивный, абсолютистский и моралистический стиль мышления приводит к тому, что они делают то, что должны делать согласно их строгим внутренним стандартам, а не то, что они хотят делать или что предпочтительнее делать. Это придаёт задачам силу императива и заменяет собой личные желания как первичный источник мотивации. Навязчивый человек считает, что если он не сделал того, что «должен», он обязан испытывать чувство вины. Кроме того, если другие не делают то, что «должны», они заслуживают гнева и осуждения.
– А. Фримен, А. Бек
Обсессивно-компульсивный пациент вовлечён в конфликт между подчинением и неповиновением. Как если бы он всё время спрашивал себя: «должен я быть хорошим или могу быть гадким?» Это приводит к постоянному чередованию эмоций страха и злости – страха, что он будет уличён в «плохости» и наказан, и злости, связанной с его желаниями и подчинением авторитетам…
– Р. А. Маккиннон, Р. Майклс, П. Дж. Бакли
Таким образом, для обсессивных людей социальные требования, примат общественного, императив «должен» приобретают абсолютную силу и ценность. Закономерно, что такой дисбаланс потребностей не только приводит к проблемам в сексе, но и в целом препятствует свободному получению от жизни больших и малых эгоистических радостей. «Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло», – в который раз проговаривает чеховский Человек в футляре заклинание самоограничения.
Непосредственное чувство малодоступно психастенику, и беззаботное веселье редко является его уделом.
– П. Б. Ганнушкин.
Любое удовольствие, не связанное с деятельностью, считается предосудительным, а проявление чувств – признаком распущенности.
– Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой
Наслаждаться жизнью такой, какая она есть, ананкастам не дано. В социальном метаболизме они уступают требованиям окружающих и позволяют себя поглотить. Обсессивные люди слепо подчиняются социальным интроектам, они не могут свободно их выбросить и открыто проявить сопротивление. Даже если у отдельных ананкастов обнаруживается оппозиционность к конкретной общественной системе, она не заменяется в их сознании эгоистическими установками, но только новыми «правильными» морально-этическими ограничителями. Другими словами, ананкасты – это всегда порядочные люди, но некоторые из них придерживаются своих особенных представлений о порядке.
Безоговорочная подчинённость ананкастов социуму наглядным образом проявляется даже в такой отдельно взятой черте как пунктуальность. Обсессивные не могут позволить себе быть неточными, не успеть в срок выполнить работу или опоздать к назначенному часу. Для них непунктуальность – проявление не просто человеческих слабостей, а вопиющее попрание общественных договорённостей, что, пускай и в малом масштабе, равно бунту и преступлению против социального порядка.
Безусловно, следование требованиям семьи, работодателя, церкви, государства – есть выражение приспособления к среде, приносящее свои реальные плоды. Но оно становится дезадаптивным в случае чрезмерности, жёсткости и ригидности. Можно пояснить механизм достижения равновесия эгоистического и альтруистического на примере известного «зефирного теста» (он же «тест с пастилой» и «маршмеллоу-тест»). В 60-х годах психолог У. Мишел провёл с детьми определённого возраста серию экспериментов. Ребёнку давался кусочек пастилы, после чего его оставляли наедине с лакомством. Перед уходом экспериментатор говорил ребёнку: «Ты можешь съесть пастилу прямо сейчас, но если ты дождёшься моего возвращения, я дам тебе не один, а два кусочка». Одни дети выполняли поставленное условие и получали удвоенное вознаграждение, другие – нет3
2
В психоаналитической концепции данный конфликт традиционно рассматривается как конфликт между потребностями двух инстанций психики – Ид и Суперэго. Соответственно, в буквальном обозначении, это конфликт между биологическими «ид-истическими» потребностями и общественными «суперэгальными» потребностями, где задача третьей инстанции – Эго найти оптимальный компромисс в конфликте и добиться реализации ид-истических интересов в условиях суперэгальных ограничений. Такая психоаналитическая модель удобна, но в целях минимизации специальной терминологии, будем говорить о личных (эгоистических) и общественных (альтруистических) потребностях.
3
Показательно, что для того, чтобы заблокировать желание выбросить из головы социальную установку на терпение, дети не просто пребывали в пассивном ожидании, а реципрокно затормаживали своё желание сразу съесть сладость противоположной активностью, в которой можно усмотреть признаки удерживающего модуса и смещенной элиминации. Например, кто-то из детей пел, кто-то играл, кто-то закрывал глаза, некоторые даже засыпали.