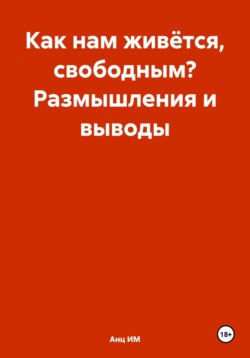Читать книгу Как нам живётся, свободным? Размышления и выводы - - Страница 2
Оглавление1. СВОБОДА СЛОВА
К этому броскому словосочетанию мы уже так привыкли, что в огромном большинстве воспринимаем его аксиомой. И если о нём говорят или спорят, то, как правило, – в его утверждение и в защиту – как ценности безусловной и всеми принятой безоговорочно, с охотой и с одобрением, установленной непреложно и навсегда.
Попытки не считаться с нею, с этой ценностью, действовать в её принижение или отзываться о ней со скепсисом заглушаются яростным: – а ну не тронь!
Оппоненты всех мастей, уже очень часто величающие друг друга «заклятыми друзьями», в самых разных ситуациях, ссылаясь на неё и подкрепляя ею свои аргументы, кажется, вполне бывают уверены в своей неприкасаемой и непробиваемой правоте. Так совершается её массовое неоглядное признавание и обережение. Переступить через этот барьер далеко не просто, вроде бы и вовсе невозможно и как будто вне здравого смысла.
Но – во всякой защите отыскиваются бреши.
Так ли уж нет никакой надобности воззреть на привычный и полюбившийся предмет с иной стороны? Ведь как раз при такой постановке вопроса может быть плодотворным исследование, пусть бы итог тут вышел нежелательным, отличным от прежней, укоренившейся установки.
Начать такое исследование (здесь подойдёт именно этот способ получения нового знания) резоннее, пожалуй, с того, чем так интересно слово, которому дана свобода. Слово как таковое. «Уложенное» в своём понятии или во многих понятиях. В чём оно выражается как единица языкового пласта, и может ли оно быть свободным?
Уже первые библейские летописцы утверждали: вначале было слово. Однако – слову предшествует мысль. Теперь никому невозможно опровергнуть того, что мысль возникает в мозге, в головном аппарате, в нём «удерживается» и из него же «является» к нам.
Процесс движения мысли к своему концу и её выхода из головного аппарата не вполне пока уяснён даже могучим современным компетентным научным знанием, да вряд ли и когда-либо станет известным в таких параметрах, чтобы рассуждать о его деталях; с уверенностью можно говорить о нём разве что как о действии, в котором главенствует выбор – выбор из множества мыслей какой-то одной и по времени – единственной. Она-то и становится словом.
«Выпорхнув» из головного аппарата, мысль во всей своей полноте перевоплощается в предмет или, если угодно, в некий новый сложный процесс её бытования и движения, указывающий на её воплощение в новое качество или облик, – на её действенность (во благо или во вред людям или отдельному индивидууму в зависимости от целей по её использованию или – по обстоятельствам).
Выражаясь понятиями из арсенала философии, мы тут имеем дело с «лёгким», незатруднённым одномоментным превращением одной формы «чего-то», где тщательно удерживалось её содержание, в другую форму, сразу «получающую» и своё содержание.
Глубинная суть такого превращения, как и несчётного множества других превращений, происходящих в окружающем нас мире не только материального, но и духовного, его, так сказать, «вещественная» ощутимость – есть та лукавая вселенская загадка и приманка, над разрешением которой безуспешно бились в течение веков и тысячелетий, вплоть до наших дней, самая передовая наука и практический опыт.
Также остаётся наглухо неизвестной продолжительность любого из превращений.
Доля здесь секунды или какой-то иной, ещё более короткий отрезок реального времени, установить не дано или, если бы такое случилось, то не в наше настоящее время, а где-то позже. Тем самым приходится признать наличие в мире по-настоящему непознаваемого (не исключается – полного), и оно, как видим, не такая уж мелочь или редкость.
К предмету слова и его свободы эти попутные замечания имеют прямое и непосредственное отношение.
Дело в том, что мыслительный процесс в головном аппарате ограничен (пространством черепа, тем же выбором и проч.), то есть – в определённой, а точнее – в значительной степени он «полноценной» свободы лишён, а, значит, ущемлён в его свободе и с точки зрения принципа должен считаться несвободным, а коли уж свободным, то лишь частично, в определённой доле.
Можно при этом говорить о существенной роли ограничений, которыми сопровождается «растекание» или разрушение формы, удерживающей мысль, – уже с самого начала её образования и дальше, вплоть до последней стадии, предшествующей «рождению» слова. – Тем не менее, взятый как единое и неразъёмное целое, он, мыслительный процесс в головном аппарате, воспринимается и признаётся нами свободным – совершенно, абсолютно.
Хотя это далеко не научный, а чисто бытовой подход, замешанный на неприхотливой житейской целесообразности, он нас будто бы устраивает. В государственных законах, в том числе в основных (в конституциях) это пренебрежение принципом утверждено в качестве права – через формулировку о свободе мысли.
То же происходит и со словом – производным от мысли.
Мы совершенно не обучены считаться с тем, в какой мере оно, слово, уже с самого начала, при своём «возникновении», ограничено в его свободе – вполне допускаемой зависимостью от происходящего в головном аппарате.
Если же вести речь о нём уже «изготовленном» и, например, только в его устном виде, то оно может быть произнесено громко, тихо, робко, с ударением на каком-то одном его слоге или без ударения, отрывочно – по слогам, врастяжку, с запинкой, интонированно, с акцентом, с какой-то важной целью или просто так.
Вместе с тем кто-то совсем не торопится произнести его, до поры удерживает его в себе (ещё в «оболочке» мысли), замалчивает, а его произношение вслух может заглушаться неким слышным тут же шумом, сигналом сирены, взрывом, речью из микрофона, чьим-то пением, музыкой, плачем ребёнка и т. д.
Нетрудно убедиться, что и записанное слово также бывает подвержено разного рода воздействиям.
Получается – и в этих случаях свобода хотя и есть, но скованная ограничениями. О том, что здесь она полная, можно забыть. Но она уложена в законах как полноценная, нисколько не ущерблённая, абсолютная. И в таком «приятном» «наряде» даже прогарантирована ими. В своём месте у нас будет возможность рассмотреть, из-за чего это происходит.
А пока укажем на отдельные несообразности и уклоны в понимании термина, который мы здесь рассматриваем.
Иногда рассуждают так: раз имеется производное от мысли, свободной мысли, то оно, должно быть, уже достаточно хорошо «вызрело» и «выверено» в головном аппарате и, значит, приобрело те смысловые и функциональные черты, какие всеми ожидаются и всем нужны.
Манипулируя со словом дальше, его свободу, свободу слова, начинают понимать в том значении, как вроде бы для тех, кто на неё претендует в своих интересах или больше того: имеет на неё право и гарантию, тут в обязательном порядке всегда должна обеспечиваться практическая выраженность заложенного в двухсловной грамматической конструкции смысла – и не только голосовым произношением, буквенной или электронной записью одного лишь «слова», как термина и понятия, но и – чем-то ещё, скорее всего тем, что связано с нашей какой-то деятельностью, нашей духовностью, потребностью приобщения к национальной или мировой культуре, политическими или другими пристрастиями и проч., – несмотря на возможные к тому препятствия. – То есть – желают иметь некий весьма внушительный и притом исключительно положительный (на пользу) результат, – как собственно от свободы, так и от примыкающего к ней слова, – от обоих составляющих этого вроде как неразделимого «тандема».
Логика подталкивает нас воспринимать сей чудный дар едва ли не вещным, реально ощутимым благом, даже товаром, весьма ценным и привлекательным, который можно брать с прилавка, не утруждаясь его оплатой.
Вольные соображения такого рода исходят, конечно же, от слова, как единицы устной речи или текста, – в его многочисленных смысловых понятиях. Эти отдельные понятия в некоторой части приводятся в словарях. А полная смысловая транскрипция термина «слово» значительно превосходит всё то, что фиксируется в записях на бумаге или в электронной памяти составителями словарей.
Так на деле даёт о себе знать «растекание» его формы. «Растекание» из-за множества его значений. Растекание по древу, как говорили ещё в далёкой древности.
При этом не лишне иметь также в виду бытование отдельного «слова» во множестве языков, где оно может варьировать в своей понятийной сути, нередко до неузнаваемости. Эти факторы в сочетании с вероятностью некоторой изменчивости мысли при её выходе из головного аппарата создают почти неуловимую сознанием разбалансировку в порядке и в качестве нашей общительности.
Русский поэт Фёдор Тютчев сделал на этот счёт такое оригинальное замечание:
Мысль изречённая есть ложь.
(Стихотворение «Silentium!»)
Думается, вряд ли кому удалось бы доказать несостоятельность этого по-настоящему мудрого изречения.
Далее. Надо учитывать ещё и то очевидное, что когда оперируют конструкцией «свобода слова» и ею утверждается некое важное право, наряду с отдельным словом получают столь же свободное хождение в обществах целые грамматические предложения и комбинации таких предложений, а ими наполняются речи, доклады, газетные страницы, выступления с трибун, манифесты, книги, интернет-блоги, листовки, всё, без чего нельзя представить современного информационного многообразия и общения в людской среде. Это тоже понимается как свобода слова.
Сюда, к этому вихревому потоку потребляемой разнообразной массовой информации и просто информации, примыкают и процессы творчества – научного, литературного, музыкального, художественного и др., которым, как это известно из государственных законов, предоставлена и гарантируется своя свобода.
Соответственно и масштаб или размах воздействия свободой слова на человеческое сознание и подсознание может выражаться величиною настолько огромной и всепроникающей, что к ней оказывается неприложимой никакая мера.
Тем самым и управление свободою слова в разумных пределах, то есть – в её сколько-нибудь отчётливых рамках становится невозможным. Многие пользуются ею на свой лад. Например – писатель Виктор Пелевин, измаравший собственные сочинения матерщиной.
«Крепкие», непристойные и ненормативные слова, реплики и целые речи уже звучат в теле- и радиопрограммах, кинофильмах, в театральных постановках, в развлекательных эстрадных представлениях, на стадионах, в обстановке обмена мнениями…
Да только бы это!
Свобода слова, как право, обеспеченное государствами, легко «умещается» и «хозяйничает» в таких серьёзных, конкретных и строгих ипостасях, как поведение, поступки человека, одного или массы, даже в намерениях, ими «двигая» и даже «повелевая», «подстёгивая» их, чем она очень часто и привлекательна и крайне опасна одновременно.
Известна, в частности, прошедшая в Стокгольме в январе 2023 года очередная публичная акция лидера правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» Расмуса Палудана – сожжение Корана. Палудан, лично сжигавший священную для мусульман книгу, назвал этот совершённый им поступок данью свободе слова…
И всё это – из-за её необъятной значимости, из-за её признавания величиною несообразной какой-либо мере, абсолютной.
Нельзя не посочувствовать политикам, работавшим над проектом конституции США – документом новейшей юриспруденции, где с целью учредить и закрепить права граждан употреблено ёмкое и, как могло казаться, прекрасное по значимости слово «свобода» – в его связке с благами от неё, – в то время, правда, лишь в преамбуле указанного документа. Что следовало под «свободою» понимать и как её истолковывать, тогда никаких пояснений в тексте конституции не приводилось.
Для разработчиков проекта тут, вероятно, был некий тупик, из которого не находилось выхода. Они не знали, что собою может представлять заманчивое поименование того желанного многозначного богатства, которым должно обеспечиваться пользование предоставлявшимися правами. У них перед глазами явно витал призрак – его суть никак не сформулируешь, чтобы он устойчиво работал, как выражающий право, и было понятно, что он «показывает».
По принятии конституции слово «свобода» так и осталось нераскрытым через пояснение.
Это был далеко не лучший, скажем так, вариант для условий применения необычного по концептуальности документа – основного закона, где умещалась функция его прямого действия при рассмотрении исковых заявлений в суде и в иных обстоятельствах урегулирования жизни общества.
Замешательство разработчиков повторилось, когда вскоре они взялись манипулировать свободою слова. Оно, это словосочетание, внесено в одну из поправок к конституции США, объединённых в известный Билль о правах. Опять же и его оставили нераскрытым через пояснение – как его надо понимать.
Речь в таких случаях идёт о так называемых дефинициях, точнее говоря, – об их отсутствии, когда они – крайне необходимы.
Досадные упущения легко теперь списать на эйфорию, которой было, видимо, в достатке или даже в избытке в то далёкое уже время – как в народе, так и в конгрессе Соединённых Штатов.
Ведь и свобода, и свобода слова принимались как нормы государственного права ещё когда в стране существовало рабовладение. Оно было ощутимо хотя бы по составу представителей, работавших над текстом проекта конституции: те, кто представлял рабов, считались (при подсчётах «за» и «против» в процедурах голосования) каждый не за целого человека, а всего лишь как его три пятых!
При столь грубых жизненных реалиях свобода, как маяк для политики и возможных радикальных преобразований в социуме, могла, что называется, пьянить воображение…
Но только ли в эйфории дело?
Можно вспомнить, как непросто было разобраться со свободой ещё в древней Греции, где также существовало рабство. Ей и там не удосужились дать толкового объяснения как норме государственного права, представить её на всеобщее обозрение в чёткой формулировке – что под нею нужно понимать.
Ясно, что и в ту далёкую эпоху необычайная восторженность по отношению к новой правовой ценности зашкаливала в обществе.
Платон в его работе «Государство», рассказывая о гражданах, своих соплеменниках, воспринимавших это мудрёное лакомство с энтузиазмом и возбуждением, по-своему глубоко и в живых красках запечатлел наблюдавшееся в полисах явление эйфории.
Тогда никто не медлил с похвалами самим себе, вкусившим свободы и надеявшимся увидеть своё будущее в некоем существенном перерождении, обновлённым и как бы уже совершенно «правильным», хотя ещё и не узаконенным, или – в сравнении с этапом первого к нему привыкания.
…это будут люди свободные, – читаем у названного философа, —: в государстве появится полная свобода и… возможность делать что хочешь.
…
…это самый лучший государственный строй.
…
…При нём существует своеобразное равенство – уравнивающее равных и неравных.
…
…из олигархического человека получается демократический.
…
…заметив, что акрополь его души пуст, захватывают его…
…
…В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств – это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей.
…
…человек живёт, угождая первому налетевшему на него желанию…
…
…только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен…
…
…государство… опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы…
…
…при таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей…
…
…душа граждан становится чувствительной даже по мелочам: всё принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат… тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными или неписаными – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чём не было над ними власти.
…
… – начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы.
…
…тиран… вырастает именно из этого корня…
…
…стать тираном и превратиться из человека в волка…
…
…раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его сподвижников.
(П л а т о н. «Государство», книга восьмая. В переводе А. Егунова. По изданию: «Государство. Законы. Поли-
тик». «Мысль», Москва, 1998 г.; стр. 310-325. – Фрагменты текста приводятся с сокращениями).
Разве не впечатляет?
Очень странно то, что американские выборные лица смогли отмахнуться от столь жёстких предостережений и констатаций, пришедших к ним спустя две с лишним тысячи лет и широко им известных, – хотя бы из энциклопедии французских просветителей ХVIII века. Они будто и не собирались дать внятного объяснения термину «свобода». А при вводе в оборот и в законы термина «свобода слова», ещё не употреблявшегося в Элладе, их старания завели их ещё дальше в непроницаемый тупик.
В самом деле: как было не обратить внимания на вполне мрачный исход жизни на началах провозглашаемой свободы! Ведь греки, энергичные в своих социальных и культурных устремлениях, так и не смогли «управиться» с нею, что видно по закату их правовых ценностей и вообще – по утрате самостоятельности страной перед более сильным и более напористым Римом.
Нам неизвестно о каком-либо активном обсуждении этого возвышенного термина в народе Соединённых Штатов, когда конституция страны уже разрабатывалась и в преддверии, а также и после этого события. Их, по крайней мере, можно бы считать любопытными. В древней Греции было ведь по-другому.
В сочинениях того же Платона почти зримо предстают перед нами бурные обсуждения принципов свободы в непринуждённых и никем не пресекаемых беседах, обозначенных как диало́ги. Они затевались по любому поводу, – с участием не обязательно только двух человек, наименьшего состава по численности, но и – целых групп спорящих и оппонентов. И столь яркий обмен мнениями продолжался не какой-то короткий срок, а многие годы…
В новое время вслед за США эстафету горькой неосмотрительности при использовании очень важных и приманчивых правовых терминов приняли многие государства, претендовавшие называться демократическими. Здесь не исключение и нынешняя Россия.
Разрабатывая принципы её новой государственности, прав и свобод своих граждан, она попросту переняла «плавающие», размытые обозначения чужих нормативов.
По этой части в стране не проводилось и соответствующих, сколько-нибудь сто́ящих обсуждений. Законотворцы, имея дело с понятием свободы, вели себя вяло, понадеявшись на мировой опыт. В народе же, который на протяжении многих десятилетий был практически отстранён от управления государством, новая терминология не шла в расчёт из-за его невольной апатии.
Если он и мог чего-то желать, как свидетель и участник режимного застоя, то – только перемен. Каких конкретно, он не знал.
Законодатели советского срока ловко использовали это роковое обстоятельство, преподнося его как выражение чаяний народа, как его стойкость и похвальную терпимость перед лицом возникавших трудностей.
Такая пошлая «традиция» во многом сохраняется и в сегодняшнем отрезке времени.
Теперь пришла пора энергично встряхнуться и по-настоящему, по-деловому заняться уточнением смысла наших первейших по значимости не только общественных и узкогосударственных, но и мировых ценностей.
Кажется, из этого исходили в США, когда Верховный суд этой страны вознамерился посомневаться в неконкретном, расплывчатом понятии свобода слова и вынес решение, позволяющее рассматривать его не традиционно, как в первой поправке к американской конституции, где говорится о недопустимости ограничений «свободы слова», а – так, чтобы при её толкованиях они (ограничения) всё-таки допускались, но – «по соответствующим причинам».
Ясно, что такая косметическая подправка мало что изменила в применении юридической нормы, поскольку плавающим и неотчётливым воспринимается теперь уже и рекомендация – «по соответствующим…» Кто мог бы обозначить её в безукоризненной точности и правильности, не допустив ошибки?
Слово, которому дана свобода и эта свобода – гарантирована, требует к себе пристальнейшего внимания как образец формы предмета и понятия, не предрасположенных к устойчивости, к стабильности.
Конечно, достойно сожаления то, как довелось обжечься с ним политикам. Но оправданно ли винить их? Как и все другие люди, они ведь не вездесущи и, кроме того, ввиду множества факторов действительности не вполне свободны. Ложь, содержащаяся в изречённой мысли и подкрепляемая доверием большинства избирателей, весьма коварна. Тут могут повергаться любые здравые положения.
Ну а где же та причина, ввиду которой ложное принято в широчайшее неоспоримое употребление и, будучи закреплено в законах, господствует над привычными устоями нашей жизни, можно сказать, над самим здравым смыслом? Откуда пошло-поехало признавание «свободы слова» как данности юридической терминологии?
Не могло же ведь случиться так, что её утверждали наобум, глядя в потолок или в небо?
Нет, разумеется.
Произошла ошибка, а точнее: подмена в понятиях.
Каких?
Давайте вернёмся к уже высказанной мысли о конституции, как особом документе, с её обязательной функцией прямого действия. Да, такая функция ко многому обязывает. К тому, в частности, чтобы вслед за основным законом она дублировалась в обычном специальном (или – отраслевом, «прикладном» и проч.) законе или кодексе.
При таком порядке вещей должен быть порядок и в применении конституции и «спаренных» с нею законов. Если же функции прямого действия у конституции нет – из-за того, что она «стёрлась», а ещё её нет и – в «примыкающих» к ней документах, ни о какой исполнительской их силе речь вести нельзя. Законы останутся, но лишь как номинальные, неработающие.
В отношении свободы слова как раз этот парадокс и наблюдается.
Вы что-нибудь слышали о разбирательствах судами исков об ущемлении свободы слова, о её нехватке кому-то, зажиме кем-то, злоупотреблениях ею? Таких примеров не отыщется во всей человеческой истории. Ни один государственный суд не возьмётся за рассмотрение подобного дела. Он откажется даже принять исковое заявление, не то чтобы его рассмотреть или тем более ́— удовлетворить. А если ввиду своей дремучей безграмотности некие судьи всё же вынесли бы вердикт по делу, такое решение окажется не по существу.
Вот и вся цена защите права на свободу слова, на её конституционное гарантирование.
Глубоко сомнительным должно в связи с этим представляться изложение в конституции России существенного в гражданских свободах:
Статья 18
…свободы… являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Так ли?
О каком правосудии нам сообщают законодатели, если оно здесь (по отношению к некоторым свободам) не только не обеспечивается, но и – невозможно. А что до «непосредственно действующих свобод», так это, будем говорить, должно касаться всего без исключения, что нас окружает, что мы видим и чем живём. Говоря по-простому, нам здесь толкуют о предмете вообще – когда этот предмет даже в малости неразличим в его конкретике.
Хотя вопрос тут, казалось бы, житейский, отказ в разбирательстве дел указанной тематики или им подобных обоснован важным юридическим обстоятельством: имеет значение то, к какому виду права исковое заявление относится – к государственному или – к естественному.
Если ко второму, то судебное разбирательство исключается по определению. Там всё ясно и давно расставлено «по полочкам» без государственного вмешательства и правосудия, о чём подробнее будет сказано ниже.
Иски названной категории в государственные суды попросту не подаются.
Приняв это за «вселенскую» «норму», судебные инстанции ничего не хотят слышать о «каком-то» естественном праве. Но – почему?
Они – проводники и стражи только права государственного, ещё называемого публичным, призванного служить сугубо тому режиму, чьи амбиции, а, стало быть, также и – соответствующие серьёзные заблуждения оно воплощает и от лица которого исходят действующие в государстве законы и подзаконные нормативные правовые акты. Эти нормативы жизнеустройства, хотя в их удержание и затрачиваются колоссальные средства, всегда и везде используются как только временные. Ведь режимы невозможно устанавливать навечно, значит, такими должны быть и законы для них. И это продолжается тысячелетия.
Право естественное всячески при этом игнорируется, что, как увидим далее, – совершенно зря.
Самое же примечательное здесь то, какой глухой и нетерпимой к естественному праву наряду с судами была и остаётся не какая-либо скрытая ото всех инстанция, корпорация или некий злодей индивидуум, а – юриспруденция, всем хорошо знакомая, как практическая, официальная, так и научная. Вот, к примеру, в какой «обёртке» она преподносит нам своё деревянистое понимание сути нелюбимого ею предмета (формулировку или её интерпретации можно встретить едва ли не во всех вузовских учебниках по государственному праву):
Естественное право в теории государства и права – понятие, означающее совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве.
Только вдуматься!
«Принципы, ценности и права», продиктованные самой природой человека, попросту отодвигаются от него в сторону как что-то чужое и чуждое. Все в совокупности. Будто нет и самого человека – их носителя и полномочного обладателя.
Туда, в ту же сторону всегда, к сожалению, была устремлена и активная общественная мысль, прежде всего та, которую беспринципные историки часто готовы называть передовой или прогрессивной… Сошлёмся хотя бы на точку зрения будто бы демократа Петра Чаадаева.
Он пишет:
Никакая сила… не заставит нас выйти из того круга идей… который признаёт лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном…
(П. Я. Ч а а д а е в. «Отрывки и афоризмы», 192. По изданию: П. Я. Чаадаев. «Статьи и письма», «Современник», Москва, 1989 г.; стр. 204. Перевод с франц. – Д. Шаховского и Б. Тарасова. – Фрагмент текста приводится с сокращениями).
После таких авторитетных высказываний только и остаётся, что руками развести. Отставка непризнанному и, стало быть, заведомо ненужному явлению, дана полная и – навсегда.
Надо ли говорить, что при таких воззрениях грамотеев и в народах не могло появиться сколько-нибудь должного понимания – что такое естественное право. О нём догадывались и даже кое-что знали, тем и довольствовались. Его профессиональное отторжение во всём мире укоренилось настолько, что к нему апатичны и дыбистая, весьма чуткая к веяниям свободы слова интеллигенция, и всякого рода правозащитники, и даже простые любители покопаться в непризнанном.
Разумеется, только ввиду слепого неприятия «ценностей, принципов и прав» официальная юриспруденция умалчивает ещё об одном обязательнейшем требовании, которое соблюдается «самой» природой, – они даются каждому человеку на всю жизнь, а те, какими обеспечиваются межличностные отношения, соответственно – всему человечеству (или какой-то его части) опять же – навсегда, навеки.
Здесь резон оглядеться. Нет ли в столь категорическом и удальском отторжении некоего лукавства?
Ведь уже у Платона нельзя не обратить внимания на то, как он представляет законы в государстве, когда оно возвышается над обществом: писаные и неписаные.
Подобный ход хорошо заметен и в поправке IX к конституции США, где сказано:
Перечисление в Конституции определённых прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых за народом» (курсив мой. – А. И.)
Разумеется, тут речь шла о недостающем.
«Неписаные» законы – это те, которые не устанавливаются государством и не предрасположены к тому, чтобы их записывали. Потому что они естественны; они «учреждены» как необходимые и ни от кого не отторгаемы не в какой-то отдельной стране или волости, а повсеместно, для всех людей на земле, по факту их рождения, почему и никто, никакое государство или даже все государства мира не властны отменить или изменить их. Даже ещё больше: никому не позволено управлять ими; если же такое управление предпринимается, это есть насилие…
В американской поправке имеются в виду права, действующие, безусловно, как равные наряду с государственными законодательными актами. Воздействие феномена естественного права в обществе, а, стало быть, и в государстве косвенно признаётся, хотя фактически – не учитывается.
Господа комментирующие и отвергающие ретивы явно не в меру.
Почему их утверждениям не следует доверять?
Не надо большого труда, чтобы составить хотя бы ограниченный перечень наших естественных свобод и прав. Среди них нельзя не выделить в первую очередь наши права жить, смотреть, видеть, дышать, слышать, обонять, получать и употреблять пищу, самим себя чувствовать, право любить плотской любовью, право иметь свои суждения по разным поводам и выражать эти суждения в разных формах – словами ли, жестами или как-то ещё…
Если присмотреться к последней позиции в приведённом перечне, к суждениям, к тому, что они в себе заключают, то, согласитесь, не может остаться незамеченным их прямое и безусловное сходство… С чем?
Да не иначе как со свободой слова!
Могли ли ведать законотворцы, что как бы по иронии судьбы, не осознавая своей оплошности, они взяли естественное право человека на свободные суждения и, обдав его холодным презрением, будучи в состоянии эйфории, всё-таки не устояли перед соблазном создать нечто в таком же роде, но более звучное, более ухабистое, касаемое всех в государстве – как прописанное в законе да ещё и подслащённое гарантированием, – чтобы даже тупой мог им восхититься и принять его, не раздумывая, откуда оно взялось и что должно значить?..
Случаи такого, будем считать, неумышленного заимствования норм естественного права, его перенесения в систему права публичного, государственного весьма многочисленны, и этому нечего удивляться: ведь этот вид права возникает без каких-либо усилий со стороны кого бы то ни было. Оно, как богатство, – «ничьё». А значит не сто́ит и пенять кому-либо, мол, тут явное, прямое умыкание.
Взятое и употреблённое с пользой – что в этом плохого?
Только можно ли говорить о сугубой пользе? История свободы слова, права на неё, на такую свободу, взывает к максимальной осторожности. Было совершено зло, и его проявления и параметры сегодня воочию наблюдаемы и хорошо просматриваются. А объяснение здесь такое: естественное право по качеству и «составу» неоднородно; есть такие его виды и подвиды, которые бывают не только полезны, но и вредны, а нередко даже соединяют в себе эти противоположные отличия.
По своей действенности и эффективности нынешняя свобода слова сродни миражу. который, как ни пытаться дотянуться до него и потрогать его, остаётся недосягаем. Ещё более верным было бы утверждение, что это особо стойкий к привыканию духовностный наркотик, в употребление которого вовлечены и терпят огромный урон уже не только отдельные страны, но и материки, весь мир.
Нам теперь остаётся лишь подкрепить высказанные соображения ссылками на некоторые специфичные факторы, способные оказывать существенные деформации в правах, если те естественны, но – слабо защищены, а употреблённые уже под видом государственного права, становятся причиной существенного искривления наличного правового пространства по месту, где их используют в несвойственной им роли.
Можно представить, какой дискомфорт способно внести в нашу обыденную жизнь даже очень маленькое инородное тело, вдруг оказавшееся в глазу. Соринка, занесённая ли ветром, или ещё что. Свобода смотреть и видеть – неотторгаема и – не терпит насилия. И мы привыкли, что если она и нарушается, то очень редко.
А если вас ослепили? За недоказанностью покушения или ввиду причины непреднамеренной вам ничего не остаётся, как смириться перед фактом произошедшего. А если виновник установлен и он – человек? Идите в суд, и он поможет вам в справедливом наказании злоумышленника.
То есть – даже несмотря на то, что свобода смотреть и видеть – право естественное, возмещение за причинённый вред вас не обойдёт – уже по закону того государства, где вы живёте или чьим гражданином являетесь.
Аналогично обстояло бы дело и с нарушением прав на свободу слышать, дышать, обонять…
Может, однако, пойти и иначе.
Например, ущемлена ваша свобода на суждения. Кто-то вам запрещает выражать её в кругу семьи или где-то в офисе, существует государственная цензура и т. д.
Крайней мерой воспрепятствования вашей свободе стало бы здесь нанесение вам травмы с целью повредить вам череп и тем самым вывести мозговой аппарат из нормального режима его работоспособности. Предполагаться могут и небольшой ушиб черепа, легко «проходящий», и грубое покалечение – с летальным финалом.
Доказательства причинения вреда, как видим, будут нужны только при серьёзной травме, когда потерпевший заинтересован в возмещении ущерба. Но в чём будут состоять эти доказательства? – Только в факте внешнего повреждения черепа, а внутри его – мозга. Нисколько не больше.
Мозговой «продукт» в виде ваших суждений, которые вам кто-то не позволил выразить сообразно вашей воле и вашему естественному праву, останется недоступным для дознавателей.
Даже если бы препятствием к выражению ваших суждений служило не физическое насилие, а, скажем, чей-то приказ или чьё-то мнение, предостережение, цензура и проч., получить необходимые доказательства причинённого вам «мыслительного» вреда оказалось бы невозможным. По той причине, что следствию пришлось бы оперировать такой сложнейшей ипостасью как свободный выбор суждений да ещё и забираться для этого внутрь черепа, чего им – не дано.
Ещё Эпиктет, древний философ-стоик, выходец из рабов, возвещал:
Нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора.
(См.: «Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий». «Терра – книжный клуб» – Издательство «Республика», Москва, 1998 г.; стр. 428. – Перевод – С. Роговина).
В этой цитате уместным было бы, пожалуй, только одно добавление: – кроме смерти.
А в целом, когда нас интересуют исключительно живые, а не умершие, – сознанию или подсознанию человека никто не приказчик. Он волен сам распоряжаться ими соответственно тому, насколько свободны происходящие в них мыслительные процессы. Будет, видимо, ещё точнее, если сказать, что ему, живому, и заботиться тут особенно не о чём, поскольку очень многое в его мозге происходит без его участия – инстинктивно…
Итак, мы уже вполне, полагаю, ознакомлены с метаморфозой, когда естественному праву вменили в обязанность быть кому-нибудь служкой, не исключая и его замены правом государственным.
Свобода слова имеет все признаки данного человеку от природы права на свободу суждений, на свободу мнений, необходимого всем широкого плюрализма.
Хотя здесь очевидны манипуляции подмены и навязанности, когда хотят руководствоваться упрощённой, грубой, не «выходящей» из естественного права целесообразностью, новое «изобретение» уже не сбросишь со счетов.
Как и норма естественного права, оно есть реальный атрибут или «инструментарий» общения в человеческом сообществе. Ведь несмотря на факт подмены всё, данное как естественное, в нём сохраняется. В том числе и его «вещественность», которая пребывает неощутимой и неконкретной.
Именно поэтому свобода слова не должна бы регламентироваться, поддерживаться и охраняться никаким законом или уставом. Речь может идти исключительно об ориентированности на неё, о фактическом её признавании – по аналогии со всем, что происходит «само собой» и что не предназначено обязательно быть записанным. И лишь в этом состоит её правовое значение.
Она есть наличная ценность правосознания, выражение качества того правового пространства в обществе, где царствует слово, – того и достаточно. А как ею «пользуются» или как бы кому хотелось «пользоваться», – это уже сторона иная. Возможна необузданная вольность, когда «с оглядкой» на неё предпочитают говорить что кому вздумается и даже делать что кому вздумается.
В интересах же государства, одного или многих, к ней апеллируют по причине часто возникавших ранее или возможных в будущем приёмах давления – на свободу суждений, – когда это расценивалось как ущемление взглядов, психики, творчества, чувств, интеллекта и проч.
Перед угрозой такого насилия сначала утвердили норму государственного права в их защиту, а затем дошло и до гарантирования этого права.
Какие бы, однако. меры по превращению нормы естественного права в государственный норматив ни изобретались, она никогда не становилась и не станет эффективным средством защиты наших суждений. Здесь – ноль.
Действие публичного права предстаёт при этом лишь как возвышение «цивилизационного» бойкого термина над естественным, природным правом людей, как своеобразная дань современной политической моде, просто – как декларация. Даже при всех гарантиях от государства публичная правовая норма о свободе слова, как и данная человеку от рождения свобода суждений, всегда остаётся ни от кого не отчуждаемой и беззащитной одновременно.
Зато разговоров о ней, об этой «сверкающей» ипостаси – в избытке или и сверх того. Ими «украшаются» самые разные по тематике коллоквиумы, «круглые столы», интервью и серьёзные доклады, уличные демонстрации, слушания и запросы в парламентах, даже балаганные шоу – чтобы пожёстче заморочить обывателей.
Нам ещё помнится, как на центральном телевидении России регулярно шла передача «Свобода слова». Её тогдашний ведущий и сейчас при деле на телевидении, но уже не в России, а на Украине, где она называется его именем: «Свобода слова Савика Шустера».
Ни один из вопросов, которые выясняются на таких «популярных» мероприятиях, никак не могут быть решаемы впрямую – официальной юриспруденцией. Это лишь приманка или вопль разнузданной демагогии. Потому что, даже будучи огосударствленной, естественная норма права на свободные суждения не перестаёт ею быть, постоянно устремляясь к своему первичному порогу, вследствие чего и обеспечиваться и поддерживаться государственным правосудием, как уже говорилось, она не может.
В этом случае оправданно говорить о мистификации, которою «охвачено» целиком двухсловное сочетание. В семантическом плане оно воспринимается всеми не по частям, а в единстве. «Слово» при этом как бы притоплено в «свободе», что вынуждает рассматривать его не как субъект, а лишь – предикатом. Посудина оказывается поставленной вверх дном.
Слияние по такой «модели» привело к тому, что здесь очень многие предпочитают не утруждать себя разделением целого и не находят у «слова», когда оно оказывается в правовом пространстве и там претендует на соответствующую свою значимость, никакого отдельного действенного смысла без его «привязки» к «свободе». Тем самым практикой, в том числе юридической и государственной, утверждено обозначение нулевой величины правового.
Прилаженная к необходимости иметь новейшую и притом весьма привлекательную для всех правовую норму, конструкция выбранного суждения уже как сама по себе, неосознанно, безотчётно, произвольно выпадает из области прямого общественного интереса и отторгается, подобно тому, как это может происходить со «свободой книжной полки» или «свободой окна».
Иного не дано.
В синтетическом виде, в обобщении восприятие «свободы слова», как составляющей действующих конституций и оплота ослеплённых радикалов, а также тьмы их последователей, приближено к элементу уверования.
Нынешний капиталистический либерализм должен, безусловно, радоваться такому обороту дела. На том и порешили. Однако обман, если он даже невидим и ещё никем не обнаружен, не перестаёт быть обманом. Это в точности то, как если бы порча была упрятана в фундаменте.
Подпорченный «свободою слова», фундамент общественной жизни на началах либерализма не только в каком-то одном государстве, а теперь уже на планете земля, по всей видимости, обречён и со временем должен растрескаться и искрошиться…
А закончить эту главу я хотел бы отсылкой к событию, состоявшемуся в 2021 году в Государственной Думе и Совете Федерации России, когда там провели правку закона РФ «Об образовании», установив «норму» под названием «просветительская деятельность».
Несмотря на довольно обширный комментарий, приведённый в статье, которую поправили, толкование этой «нормы» осталось нечётким, размытым, указывающим на произвольные значения, лишённым точной и убедительной обозначенности – что это такое на самом деле. То есть ей не задана чёткая формула её существа и применения.
Это ещё один досадный факт пренебрежения так необходимой в данном случае дефиницией. Факт, едва ли не закономерно вытекающий из неясного, неумелого, авантюрного пользования термином и понятием слова «свобода» – как своеобразным дешёвым и истрёпанным флагом нашей блуждающей, слишком ополитизированной современности.
Не только учёные, деятели культуры, образованные юристы, но даже школьники усомнились в этой узаконенной государственной правовой наработке – из опасения, что чиновничье рвение при использовании новшества может едва ли не на 100 процентом искажать его суть, понимая его по-своему, то есть – лукавствуя в «интересах» государства, вследствие чего неизбежны преследования и репрессии в отношении инакомыслящих и несогласных.
Кстати, уже на момент прохождения проекта поправки к закону «Об образовании» в Думе и Совфеде их, оппонентов, выступивших против сомнительной нормы, в России насчитывались многие сотни тысяч.
Нам придётся ещё не раз быть свидетелями таких проколов со свободой, свободой слова и прочими подобными ценностями теперешней захвалённой либеральной цивилизации на земном шаре.
Не дать бы этому хода, да только вряд ли кому суждено преуспеть в таком старании. Время уже, к сожалению, работает не иначе как против нас…
Далее мы намерены по возможности обстоятельнее рассказать о таких ценностях, сопряжённых с понятием свободы, как цензура, гласность, массовая информация и других, на которых основываются современные представления о желанном сценарии нашего существования и развития; но только, думается, с изложением этих положений нам нет резона особо спешить, следует от него пока воздержаться.
Ещё многое не сказано о праве как таковом и его исключительности в нашей повседневной жизни, а также – неустойчивости под воздействием неадекватного ориентирования на него.
В чём тут состоит коренной вопрос, будем судить, продолжив размышления о праве естественном, оказавшемся в великой немилости к себе не у кого-то из нас или у предыдущих поколений, а у самой госпожи истории.