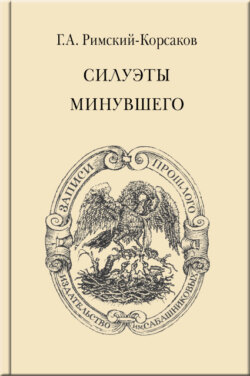Читать книгу Силуэты минувшего - - Страница 4
Гимназист Алехин
ОглавлениеЭто было в 1905 году. Я учился тогда в Москве, в частной гимназии Л.И. Поливанова6, известного в свое время педагога. Гимназия имела хорошую репутацию. Говорили о скромности, серьезности и воспитанности учащихся, а также о хорошем подборе преподавателей. Действительно, при мне русскую литературу преподавал Л.П. Бельский, известный переводчик «Калевалы»; математику – сначала Н.И. Шишкин (брат известного художника), потом Бачинский, молодой художественный критик; экономическую географию – известный статистик-экономист Игнатов, русскую историю – Ю.В. Готье, впоследствии академик.
Запоздав к началу учебного года, при переходе в шестой класс, я должен был занять единственное свободное место во втором ряду, на крайней к окну парте. Моим соседом оказался паренек, ничем не примечательный на первый взгляд, с удивительно будничной, простецкой внешностью. Курносый, рот большой, с плотно сжатыми тонкими губами. Во рту довольно желтые зубы. Рыжеватые, светлые волосы, сбившиеся спереди на лоб, в виде плохо промытой мочалки. На бледном лице веснушки. Длинные, не очень чистые, красные пальцы, с обгрызенными до мяса ногтями. Руки всегда холодные. Голос довольно высокий и немного скрипучий. Пожалуй, все же глаза были наиболее примечательным органом в этом, вообще говоря, малопривлекательном, юноше. Глаза были водянисто-прозрачные, желтого отлива, ничего не выражающие – «пустые». Когда он глядел, то нельзя было быть уверенным, что он видит что-нибудь, и смотрел он не на собеседника, а через него, в пространство. Походка у парня была легкая и быстрая, но какая-то вихлястая, неврастеничная, и кроме того, он имел привычку дергаться, как-то вдруг выпрямляясь, спереди назад закидывая голову и обводя вокруг невидящими глазами, презрительно сжимая при этом свои бескровные губы. Зрение у него все же очевидно было плохое, так как читал он, очень близко наклоняясь над книгой. Одежду его составляли, черная гимназическая куртка с ремнем и брюки, довольно потертые, не первой свежести. Таким образом, внешний вид моего соседа был далеко не элегантный и мало располагающий к себе. Фамилия его была – Алехин.
С первых же дней ученья я почувствовал себя крайне одиноким. Привыкнув в гимназии к дружескому общению со своими соседями и чувству локтя, меня поразила отчужденность Алехина. Сначала я принимал его молчание за выражение личной неприязни ко мне, но вскоре понял, что Алехин совершенно одинаково безразлично относится ко всему классу. Понял я и причину того, что единственное свободное место в классе оказалось рядом с Алехиным. Надо заметить, что ничего враждебного в отношении класса к будущему чемпиону не было. Но в то время, когда между гимназистами самых разных характеров и разного социального и бытового положения устанавливалась, на время пребывания в стенах школы, определенная товарищеская солидарность и взаимопонимание, между Алехиным и классом стояла какая-то преграда, не допускающая обычных товарищеских отношений.
Алехин «присутствовал» на уроках, но не жил интересами класса. Не только никогда у меня с ним не затевалось каких-либо задушевных разговоров, но я не помню, чтобы мы вообще когда-либо разговаривали.
Несмотря на свое отличнее знание всех предметов, Алехин никогда никому не подсказывал. Первое время при устных ответах я еще рассчитывал на помощь своего соседа, но он упорно молчал, не обращая внимания на красноречивые толчки моего колена и пинки кулаком в бок. Сначала это возмущало меня, так как даже лучший ученик в классе, Лева Поливанов, сын нашего директора, и тот иногда не удерживался, чтобы не подсказать товарищу. Такое поведение Алехина могло происходить от очень большого эгоизма, или от нежелания отвлечься, хотя бы на минуту, от своих шахматных мыслей. На всех уроках, кроме урока латинского языка, который преподавал Л.И. Поливанов, директор гимназии, Алехин был занят решением шахматных задач и обширной корреспонденцией. Уже тогда он играл шахматные партии «на расстоянии» с партнерами всего мира. Но времени для шахматной переписки ему явно не хватало, хотя он и трудился вовсю. Не хватало ему порой и бумаги для писания шахматных задач. Исчерпав свои запасы бумаги, свои тетради и книги, он, нисколько не стесняясь, принимался за мои, чертя на них изображение шахматной доски и движение фигур. Обдумав ответ на посланный ему ход какого-нибудь далекого партнера, Алехин в свою очередь брал почтовую карточку и, написав на ней свой ход, адресовал ее куда-нибудь в Чикаго, Лондон или Рио-де-Жанейро. Само собой понятно, что он получал много таких же почтовых карточек со всего света с разными почтовыми марками. Но «профанам» в шахматной игре, вроде меня, до них нельзя было дотрагиваться. Нечего было и думать получить от Алехина какую-нибудь редкую почтовую марку республики Коста-Рики, Нигерии или Зеленого Мыса. Весь углубленный в свои шахматные дела, Алехин даже на уроках «закона Божия» и французского языка, когда все ученики, кроме сидящих в виде заслона на первых партах, предавались каким-нибудь приятным занятиям, вроде игры в шашки, домино и даже карты, или читали приключения Шерлока Холмса, или наконец, мирно дремали, – Алехин один не отвлекался от своего шахматного труда. Он настолько исключался из окружающей его среды, что не всегда ясно сознавал, где он находится и какой идет урок. Бывало, что вдруг начнет вставать из-за парты. Класс затихал и напряженно ждал, что будет дальше. Постояв немного с растерянным видом и покрутив свой рыжий чуб, Алехин вдруг издавал радостное «Ага!», быстро хватал ручку и записывал придуманный ход. Если преподаватель задавал ему вопрос, то он, услышав свою фамилию, быстро вскакивал и некоторое время стоял молча, обводя класс своими прищуренными, подслеповатыми глазами, искривив рот в болезненную гримасу, как бы стараясь понять, где он находится и что от него требуют. Все это происходило не больше пары секунд, после чего лицо Алехина прояснялось, и на повторный вопрос учителя он отвечал быстро и без ошибки.
Учился Алехин отлично. Когда и как он готовил уроки, не знаю. Но обладая исключительной памятью, ему достаточно было на перемене взглянуть в учебник, чтобы запомнить заданный урок. Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные, поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу. Другие – бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем своим жалким видом взывая к товарищеской помощи. Вдруг Алехин стремительно встает и с сияющим лицом молча обводит класс глазами и в тоже время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок своих мочальных волос, сбившихся на лоб.
«Ну, что, Алехин, решили?», – спрашивает его преподаватель Бачинский.
«Решил… я жертвую коня, а слон ходит … и белые выигрывают!»
Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда сдержанный и корректный Бачинский.
У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к самым различным общественным группам московского населения. Были купцы: Морозов и Прохоров; аристократы: Долгорукие и Бобринские. Дети профессоров и адвокатов – Шершеневич, Гартунг; представители революционной интеллигенции – Лобачев и Клопотович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень состоятельных родителей. Отец – крупный землевладелец Воронежской губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого знаменитого шахматиста не было во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика, ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может быть, сына бухгалтера или мелкого торговца.
Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую фамилию. Так, когда наш «батюшка» о. Розанов, вызывая Алехина отвечать урок по «закону божию», постоянно называл его – «Олёхиным», с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».
К концу учебного года у меня с Алехиным отношения обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы делиться повседневными мелочами нашего школьного быта и обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же, безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за «жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к Алехину и получить их от него было крайне трудно, и мне приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на протяжении целого года, то давала мне основание считать ее проявлением злой воли. Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий товарищ. Я не помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел, чтобы он читал какую-нибудь книгу. А между тем, многие из нас зачитывались сборниками «Знания», где печатались Горький, Л. Андреев, Вересаев, Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцибашева, Амфитеатрова. Увлекались «Паном» Гамсуна, Ибсеном, Шницлером. Конечно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.
Были у нас и восторженные почитатели Большого Театра, Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке Шаляпина на гастроли в Италию, и о многом другом. Завидовали тем, кто носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую шапку – лодочкой – как Качалов. Были такие ученики, у которых в ранце было больше фотографий балерин, чем учебников…
Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому, должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот концерт организовала семья С.Г. Аксакова7, внука писателя, сыновья которого учились в нашем классе.
Не писал Алехин и писем Л.Н. Толстому с просьбой разрешить вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоящих на пороге мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназического зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии, словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену, погибшие в общественном мнении ученики, наспех жадно глотали дым папирос, при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув на них, и может быть, и не заметив их.
Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не могла оставаться равнодушной к переживаемым страной революционный событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы, занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам, гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе событий. Так мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете, мать его – известная общественная деятельница В.Н. Бобринская, заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали, что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из «черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и построиться. Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под полы наш знакомый художник Б.Н. Липкин. И, наконец, все же я достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик, который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но покалечить, особенно себя, было не трудно. И стоил он … один рубль 50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участие в первой русской революции. На углу нашего Никольского переулка и Сивцева-Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка Д.Н. Ушаков8, а позднее и профессор консерватории К.Н. Игумнов, появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее продавец из угловой москательной лавки.
Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем, несколько досок, унесенных мною с нашего двора, не сделали нашу баррикаду более грозной и неприступной. Защитников ее не было и дворники разобрали ее в несколько минут, чтобы она не мешала движению по переулку.
Пускай это была детская игра в революцию, но эта игра свидетельствовала о наших симпатиях и наших настроениях.
Когда возобновились школьные занятия, у многих из нас было что рассказать друг другу. Но Алехин и тут, кажется, не проявил никакого интереса к нашим рассказам, и он глубоко обидел меня тем, что, взглянув на мой пистолет, он несколько раз дернул головой в бок и презрительно улыбнулся.
Потом, когда я перешел учиться в Петербург, я узнал, что Алехин поступил на университетский курс Училища Правоведения. У меня были друзья среди правоведов, товарищей по курсу Алехина, и, бывая у них, я встречался и с моим гимназическим товарищем. Встречи эти не доставляли мне никакого удовольствия, да и ему, по-видимому, также. Тогда же я услышал, как потешались правоведы над необыкновенной «профессорской» рассеянностью Алехина, над его «штатской» душой, над отсутствием у него мундирной выправки и, особенно, над его неуменьем пить вино, что по неписаному кодексу чести некоторых правоведов считалось крайне предосудительным. (Впрочем, позднее он, кажется, этому научился).
Рассказывали, что Алехин мог при случае по рассеянности вместо треуголки – установленного для правоведов головного убора, надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр и выйти так на улицу, за что он и подвергался суровым выговорам со стороны начальства Училища. Впрочем, в этот период его жизни, в рассеянности и чудачествах Алехина, я думаю, много было от юношеского озорства, желания порисоваться, отличиться, почудить. Когда товарищи бурно и весело реагировали на какие-нибудь удивительно «чудные» выходки Алехина, то у него самого появлялись в глазах какие-то веселые искорки и лицо выражало отнюдь не смущение, а чувство самодовольства и удовлетворения: «Вот, мол, я какой, – мне все нипочем, а вот вы попробуйте-ка…» Отношения мои с Алехиным испортились от того, что я принимал его выходки «всерьез», вместо того, чтобы обращать их в шутку.
Вскоре по поступлении Алехина в Правоведение он одержал свою первую знаменательную победу на шахматном поле.9 Во всех газетах и журналах появились его фотографии. Появились и карикатуры. Так, в «Петербургской газете» Алехин был изображен в виде мальчика-гимназиста, несущего громадный кубок-приз и согнувшегося под его тяжестью. Это дешевое остроумие было рассчитано на невзыскательные вкусы петербургских обывателей, читателей этой бульварной газеты.
Потом началась война. За ней пришла революция, и я больше Алехина не встречал. То, что мне позднее удалось узнать о чемпионе мира по шахматам, указывало на то, что мой беспокойный сосед по школьной парте во многом изменил свой характер и свое отношение к окружающему его миру.10
Дорога, по которой он шел к славе, не всегда была прямой и ровной. Кроме радости побед и успехов, он знал и горькие минуты поражений. Совершал он и крупные ошибки при выборе пути. Происходящее, как я думаю, во многом от недостаточного знания жизни, которую он проглядел за недосугом, и неуменья поэтому разбираться в реальной обстановке.
Теперь, по прошествии многих лет, для меня ясно, странности характера и чудачества Алехина, которые выделяли его из массы школьников, причиняли беспокойство окружающим его юнцам, или вызывали у них насмешки, были признаками его исключительной одаренности.
Не будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения полувековой давности, памятуя только, что Алехин, как шахматный мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу русскому имени.
1960 г.
6
Поливанов Лев Иванович (1838 – 1898), литературовед, пушкинист, педагог, основал гимназию в Москве в 1868 г. (ул. Пречистенка, 32). После его смерти директором стал его сын Л.Л. Поливанов. – Прим. А.Р.-К.
7
Аксаков С.Г. – внук писателя С.Т. Аксакова; его сыновья – Константин и Сергей (будущий композитор). Жили Аксаковы в Москве – угол Пречистенки и Штатного пер. (с 1921 г. – Кропоткинский пер.) в доме композитора и пианиста В.И. Ребикова (1866 – 1920). – Прим. А.Р.-К.
8
Ушаков Д.Н. (1873 – 1942), филолог, автор словарей русского языка – толкового в 4-х томах и орфографического, жил в 1920-30-х годах в доме №19 в Плотниковом пер. (до 1922 –Никольский пер.). – Прим. А.Р.-К.
9
Очевидно, автор имеет в виду победу Алехина на Всероссийском турнире любителей в Петербурге (1909 г.), где он играл с 16-ю известными в России шахматистами и выиграл 12 партий, 2 свел в ничью и проиграл только 2 партии. Алехину было тогда 16 лет. – Прим. А.Р.-К.
10
Окончив Училище правоведения в 1914 г., Алехин был причислен к министерству юстиции, в 1916 г. добровольно пошел санитаром на фронт, был контужен в Галиции под Тернополем (награжден 6ыл крестами – Станислава и Георгия), после октября 1917 г. жил случайными заработками: немного проработал в Угрозыске, был переводчиком в Коминтерне (знал немецкий и французский); недолго посещал занятия в киностудии В. Гардина. В 1931 г. женился на швейцарской журналистке и выехал с ней за границу. Чемпионом мира был с 1927 по 1935 г. и с 1937 г. до конца жизни. Хотя и старался не терять связь с Россией и ее шахматистами, идей большевизма не принял, за что был надолго зачислен советской властью во враги, жил во Франции, Аргентине, Германии, Португалии. Хотел в 1946 году сыграть матч с М. Ботвинником в СССР, но не успел. Умер в Португалии. Прах его был перенесен в 1956 г. в Париж на кладбище Монпарнас. – Прим. А.Р.-К.