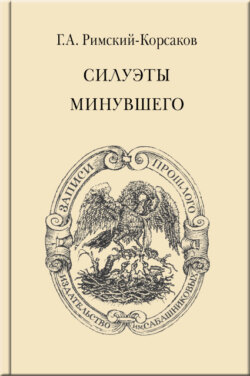Читать книгу Силуэты минувшего - - Страница 5
Записки солдата-гвардейца
Глава I
ОглавлениеПод влиянием моих первых наставниц: В.В. Степановой (эсерки), Марии Викентьевны11 (РСДРП), А.М. Левитской (ВКПб), я любил говорить, что ничто не заставит меня пойти служить офицером, разве только крайняя необходимость. Я вполне разделял взгляды Толстого на военную службу и видел в ней что-то весьма унизительное для человеческого достоинства.
Однако пребывание моё в стенах Училища правоведения сильно поколебало эту мою концепцию.
В войну с Японией многие правоведы пошли добровольцами в армию. Тогда же стала намечаться тенденция по окончании училища пойти не на гражданскую, а на военную службу. К этому времени, очевидно, у правоведов идеалы шестидесятых годов окончательно выветрились. Правоведение перестало быть колыбелью «белых юристов». На правоведов, которые, кончая училище, шли служить в Министерство Юстиции, товарищи смотрели, как на неудачников. Их жалели и вскоре забывали. В училище стали поступать для карьеры, для связей, для хорошего общества. После 1905 года из каждого выпуска кто-нибудь из правоведов шел служить в гвардию. В моё время служили: Коссиковский, Г. Гротгус и Струков – в кавалергардах, С. Игнатьев и Шеншины – в гусарах, барон Торнау – в Конном полку, Свечин – в Преображенском (флигель-адъютант)… Когда кто-нибудь из них появлялся в училище, гремя саблей и звеня шпорами, то мальчишки теряли голову, и даже самые благоразумные начинали мечтать о гусарском ментике или кирасирском колете.
В моем классе о военном мундире говорили Бобриков, Фермор, Томкеев, Таптыков, Рогович, Каменский, Яковлев (флот), Балбашевский, Армфельдт. Нет ничего удивительного, что и я стал подумывать о мундире преображенца. Однако, когда я поделился этими мыслями с моим братом Дмитрием, уже носившем гусарский гродненский мундир, то он очень резко воспротивился моему проекту: «Если ты пойдешь служить в пехоту, то ты мне больше не брат. Ты не представляешь, какой это ужас – пехотный полк. Если хочешь служить – иди в конную артиллерию. Часть очень приличная, достаточно скромная. Служба там рай, и тебя туда примут. У меня там много друзей».
Я не мог не прислушаться к совету брата-офицера. На нашей правоведской бирже хорошего тона конная артиллерия никак не котировалась, ее никто не знал. Я тоже. Но у меня там был знакомый, Е.Н. Угрюмов, друг семьи моего дяди Сергея Александровича Римского-Корсакова. Я обратился к нему за советом. Он подтвердил мне все, что сказал мой брат, и добавил, что со своей стороны он посодействует моему поступлению вольноопределяющимся. Сам Угрюмов тоже начал свою службу в конной артиллерии с вольноопределяющегося и потом сдал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище.
Надо заметить, Угрюмов очень серьезно предупредил меня, что выдержать офицерский экзамен чрезвычайно трудно – он требует и особых математических способностей, и исключительной усидчивости, внимания, и временного отречения от всех радостей жизни. «Хватит ли у тебя для этого воли и сил?» – спросил Угрюмов. Я отвечал, что попытаюсь. Ответ мой был очень легкомысленным. Действительно, надо было со всей серьезностью отнестись к предупреждению Угрюмова. Я этого не сделал и, может быть потому, что помнил совет брата. Вряд ли он, зная мои средние способности, посоветовал бы мне что-нибудь такое, чего я не мог бы преодолеть.
Мой дядя, артиллерист, а также и мой отец, артиллерийский офицер в отставке, очень приветствовали мое решение. Но никто, кроме Угрюмова, не предвидел всех трудностей, ожидавших меня в дальнейшем.
Итак, я подал просьбу о принятии меня вольноопределяющимся в конную артиллерию. Адъютант, капитан Огарев, предложил мне оставить свой адрес и ждать извещения. Это было великим постом 1912 года. Прошло два месяца, и никакого ответа я не получал. Я обратился за содействием к Угрюмову. Оказалось, что Огарев уже больше не адъютант. Новый адъютант, А.П. Саблин, ничего обо мне не знал. Пришлось подавать прошение вторично. Саблин спросил, не брат ли я гродненского гусара? И узнав, что брат, сказал: «В таком случае вы уже приняты. Поезжайте домой, а в августе приходите, чтобы получить назначение в учебную команду». Я так и сделал.
Настала осень.
Нас было четверо вольноопределяющихся: В.П. Штукенберг (Додя) и два брата Мезенцевых, Александр и Михаил. По совету Саблина я поселился вместе с Штукенбергом. Мы сняли нижний этаж флигеля у вдовы Постельниковой (sic!) в городе Павловске, где находилась учебная команда, на Солдатской улице. Над нами жил гарнизонный священник, носивший крест на Георгиевской ленте, полученный за Японскую войну. Мезенцевы устроились на полном пансионе у нашей хозяйки, жившей в доме, выходившем на улицу. Нам со Штукенбергом пришлось вести самим свой «дом». Откуда-то появился у нас слуга, Иосиф Козловский – немолодой, неопрятный и тщедушный поляк, очень малосимпатичный. Позднее оказалось, что он болен туберкулезом. Это не мешало ему уничтожать все наши запасы и вина. Он всем своим видом выражал свое неудовольствие и, разговаривая с нами, презрительно усмехался. Мне он портил аппетит, а Штукенберг ворчал и спрашивал, для чего мы должны терпеть такую неприятную фигуру около себя? Однако уволить Иосифа у нас не хватало духу. Уж слишком жалкий это был человек. В конце концов он все же от нас ушел. При расчёте, прощаясь, он скривил рот в ехидную усмешку и посоветовал нам взять молодую кухарку: «Я же знаю, что вам требуется». Мы взяли по объявлению в газете одного парнишку. Он был очень веселого и общительного нрава и стал любимцем всех соседних кухарок. Впрочем, он был добродетелен, как красная девица.
Обед мы сначала брали из офицерского собрания. Но это было дорого, а порции не соответствовали нашим зверским аппетитам. Стали что-то готовить дома. Штукенберг очень любил щи по-французски – «по-то-фё» и омлет из сбитых яиц, как я его приготовлял, без молока (ocufs brouilles). Но в основном пищей нашей служили всякие консервы (кукуруза и др.), масло, сыр, колбаса. По-холостяцки денег уходило много, а питались кое-как.
Квартира наша состояла из четырех комнат и кухни. Кроме того, две большие веранды, совершенно нам не нужные. Платили мы за квартиру 50 руб. в месяц. Это было очень дорого для зимнего сезона по Павловским ценам. Зато казармы учебной команды были в пяти минутах ходьбы. Надо заметить, что дома у себя мы бывали только для того, чтобы спать и есть. В начале службы мы так уставали, что и есть не хотелось, а только бы спать и спать. Это вполне понятно. По расписанию наших служебных занятий мы вставали в 4 часа утра и отправлялись на чистку лошадей и уборку конюшен. Уборка продолжалась до 6 часов. Потом до 8 часов был перерыв для умывания и завтрака. С 8 до 11 часов проходили занятия пешего строя и гимнастика. Занимались мы в малом манеже, пристроенном к большому. Конечно, манеж не отапливался, хотя печи и были. В громадных окнах не хватало многих стекол. Температура воздуха была такая же, как и на улице. Но самым неприятным был не холод, хотя наши ноги очень страдали от него, а сильный сквозняк. Для многих его действие было губительно, когда мы разгоряченные, потные, в одних гимнастерках, стояли неподвижно в строю. Очень многие простывали, а бедняга Чирец, со слабыми легкими, схватил жестокий плеврит, был отправлен на родину и вскоре там умер. Удивительно, что никакими гриппами никто у нас не болел. Правда, многие болели, но совсем не гриппом. Кое-кто из солдат, и мы в том числе, носили под гимнастеркой теплую шерстяную фуфайку. Это не запрещалось, при условии, что фуфайку не будет видно. В какой-то мере это предохраняло от холода. Обмундирование у нас было собственное. Надо было иметь два комплекта, один – рабочий, служебный, а другой – выходной. Очень быстро нашу одежду пропитал лошадиный пот, и ехать в «увольнение» на воскресение «в город», т.е. в Петербург, в вонючей шинели было абсолютно невозможно. Пахнет лошадь не противно, но всё же сильный ее запах «шибает в нос».
Сапоги тоже были строевые и городские, также как и шпоры. Конечно, собственная шинель была длиннее казенной и доходила до пяток – согласно кавалерийскому шику. Каждый солдат учебной команды имел закрепленного за ним коня. Он на нем ездил, убирал его, кормил. Мне был дан конь «Донец», – умнейшее животное. Он знал строевую службу, все команды, не хуже самого господина вахмистра. Согласно установившейся традиции вольноопределяющиеся сами своих коней не убирали. Господин вахмистр назначал им «рехмета» из числа солдат учебной команды, т.е. вестового, который за десять рублей в месяц, а то и меньше, убирал лошадь вольноопределяющегося (Александр Мезенцев сам чистил своего коня, с которым он и подружился). Хотя мы сами своих лошадей не чистили, но на утреннюю уборку и вечером ходить были обязаны. Очень мучительны были эти хождения в морозные ночи, когда, как вспоминал Штукенберг Пушкина, «все доброе ложится, и все недоброе встает».
Месяца через четыре мы были освобождены от чистки коней, но в дневальства и дежурства назначались до конца курса учебной команды, то есть до конца апреля. Правда, эти наряды бывали не часто.
Не знаю, где было хуже дежурить: на конюшне или в казарме. На конюшне было холодно и жутко. Температура всё же была не выше нуля. Но просидеть двенадцать часов там было тяжело. Особенно мерзли ноги, и согреть их не было никакой возможности. После 12 часов ночи начинало усиленно клонить ко сну. Борьба со сном, можно сказать, являлась главной нашей обязанностью. Борьба давалась эта нелегко. Мерное похрапывание и дыхание лошадей, однообразное бряцание цепей и удары их о кормушки, шуршание соломы и абсолютная тишина снаружи как-то незаметно убаюкивали. Стоило только присесть на мешок с овсом или на ларь, как уже погружался в сон. Но сознание боролось и сопротивлялось сну, и поэтому этот сон походил больше на клевание носом. Сделаешь клевок и очнешься. Откроешь глаза и с ужасом видишь перед собой какую-то чудовищную морду из гоголевской фантастики! Эта чертовщина оказывается головой лошади, которая неслышно подошла к мешку с овсом. Надо заметить, что ночью все лошади ежеминутно сбрасывали с себя недоуздки, выходили из денников и бродили по конюшне, очевидно в поисках съедобного, так как казённый их рацион был явно недостаточен. На одну лошадь полагалось: 8 фунтов овса, 10 фунтов сена и 12 – соломы-подстилки в сутки, которую они тоже сжирали с удовольствием. Бедные животные все время чувствовали голод и злобно поглядывали на дневальных.
Загонять лошадей в стойла было довольно хлопотливо, к тому же некоторые из них кусались и лягались, так как лошадь вообще животное злое и хитрое.
Дежурить по казарме ночью было, может быть, не так тяжело, но очень омерзительно. Питались солдаты команды хорошо. Обед состоял из очень жирных, и поэтому почти несъедобных щей с большим куском мяса (200 грамм) и жирной каши. Хлеба ржаного полагалось, если не ошибаюсь – 3 фунта (т.е. больше кило) и 56 золот. сахара, т.е. больше 200 гр. Очень много хлеба оставалось. На ужин давали кашу. Порции были большие. От такой пищи ночью в спальном помещении поднимался такой тяжелый дух, что становилось невмоготу и приходилось выходить на улицу, чтобы подышать чистым воздухом. Впрочем, после улицы воздух в казарме казался ещё чудовищнее. Присоедините сюда еще запах портянок, которые сушились, развешанные у печек, и тогда вам будет ясно, что дежурство на конюшне было значительно приятнее.
Устав требовал, чтобы на ночь, для вентиляции, печные трубы не закрывались, а также открывались бы форточки для проветривания. Однако открывание форточек вызывало гневный протест солдат, которые под утро очень страдали от холода, так как асфальтовый пол быстро остужал помещение, в котором и без этого никогда не было жарко. После дежурства казарменная вонь еще долго держалась в носу, и было ощущение, что и шинель, и мундир, и сам весь пропитался этим тошнотворным запахом.
Когда я первый раз пришел на ученье верховой езды, сменой командовал поручик Н.А. Барановский, бывший лицеист, ставший офицером из вольноопределяющихся. Урок заключался в том, что надо было научиться влезать на лошадь, неоседланную, стоящую на месте и идущую рысью. Как оказалось, влезть на лошадь без седла и стремян – дело довольно сложное, почти невозможное. Сколько я ни делал попыток вскочить на спину кобылы «Венеры», это мне не удавалось. Барановский долго смотрел на мои потуги и сопел как морж. Наконец, он подошел ко мне: «Согни левую ногу», – сказал он и легко подсадил меня на круп лошади. «Надо научиться самому влезать. Никто другой раз помогать не будет».
Никакого другого технического приема для влезания на лошадь он ни мне, ни моим товарищам не преподал и скоро ушел домой, поручив занятия вахмистру. Степан Петрович Зайченко был наш первый, непосредственный начальник, вахмистр учебной команды, подпрапорщик, любимец офицеров, да, пожалуй, что и солдаты к нему относились хорошо и уважали его, несмотря на то, что он был еще очень молод годами и только второй год находился на сверхсрочной службе в учебной команде. Характера он был спокойного, всегда ровный в обращении, корректный, выдержанный. Совсем не помню, чтобы он когда-нибудь кричал на солдат или ругался, а тем более дрался. Спокойно отдавал распоряжения, не травмируя солдатскую психику. Усов и бороды не носил и порой выглядел совсем мальчишкой. Иметь с ним дело нам, вольноопределяющимся, было очень приятно. Когда Александр Мезенцев, наш староста (дуайен) передал ему от нас сорок рублей (по десяти с человека) и сказал, что вольноопределяющиеся его благодарят, он очень спокойно сунул деньги в карман и сказал: «Ну, это, как полагается». Потом он получил такую же сумму на Рождество, как поздравление с праздником.
Держал себя с нами Степан Петрович удивительно корректно и даже почтительно. Конечно, говорил нам «Вы» и здоровался за руку. А о нас говорил солдатам в третьем лице: «Соловьев, подай «им», господину вольноопределяющемуся, коня…»
Степан Петрович был женат. «Ихная баба» и «дитё» жили при нем. Жена была совсем невзрачной, серой бабенкой и являла резкий контраст с молодцеватой и подтянутой фигурой мужа. Носил он всегда бушлат светло-песочного цвета, на петлице которого укреплялся конец серебряной цепочки от часов – подарок за хорошую службу от командира батареи. Службу он действительно знал хорошо и умел очень толково передать солдатам необходимые сведения. Так и на этот раз, когда Барановский поручил Степану Петровичу проводить занятия без него, он подошел ко мне и стал показывать, как удобнее всего влезть на лошадь, для чего нужно сделать прыжок на месте и оттолкнуться от земли одновременно двумя ногами. Когда я достиг в этом некоторого совершенства, он показал прыжки на лошадь и на рыси, что оказалось много легче, и, наконец, на манежном галопе. Сначала я дрожал от страха и не мог себе представить, как это можно, вне арены цирка, показывать такие приемы джигитовки. Но потом, поборов свою робость, я осилил с грехом пополам и эту премудрость кавалерийской науки. Штукенберг оказался много храбрее меня и быстро научился обращаться с конем, достигнув в этом даже некоторого изящества и щегольства. Александр Мезенцев давно уже хорошо умел владеть конем, но при этом все его движения были крайне робки и неуверенны, что создавало неправильное о нем представление. Миша Мезенцев страдал больше всех нас, будучи довольно нескладным малым, не обладая ни нужной ловкостью, ни физической силой. Его внешний вид и наружность, носившая болезненный отпечаток, мало располагали к нему начальство, и спасало его от неприятных придирок лишь то, что он был Мезенцев, то есть принадлежал к семье, в которой все мужчины служили в конной артиллерии. Тем не менее, офицеры учебной команды не могли скрыть своей неприязни к этому бедному юноше, который своим кислым видом должен был бы внушать только жалость.
В манежной езде самым большим для меня мученьем были барьеры. На прыжке через барьер строго запрещалось хвататься рукой за луку седла. Это движение делалось совсем непроизвольно, но неизменно вызывало щелканье бича, а также неодобрительное замечание начальства, высказанные довольно брутально. Правовед Кутейников служил вольноопределяющемся в Лейб-гвардии Казачьем полку и рассказывал, что у них в учебной команде за сбитый барьер офицеры штрафуют донцов по 50 копеек. «Ну, мне-то наплевать на штраф. Я ведь богатый», – хихикал Кутейников.
Мой конь Донец брал хорошо барьеры, если я ему не мешал. Но я нервничал, и это передавалось ему. Я не мог попасть в ритм движения лошади и вылетал ей на шею. Лучше всего у меня получалось, когда я вовсе не думал о барьере и о том, чтобы удержаться в седле. Первые прыгуны у нас были Мезенцев Александр и Штукенберг. Надо иметь в виду, что новичками военной службы в учебной команде были только мы, вольноопределяющиеся. Наши товарищи, солдаты, уже служили до команды год в батареях, где и обучались всему тому, что потом проходилось в учебной команде более глубоко и педантично. Поэтому и барьеры для них были знакомы.
Кроме того, не следует забывать, что в учебную команду отбирались из молодых солдат наиболее развитые и ловкие, способные стать позднее младшими командирами. Так что у них было заметное преимущество в службе перед нами. Они уже имели годовой опыт, а мы только начинали осваивать азы кавалерийского и пешего строя.
Пеший строй не представлял бы для нас никакой сложности, если бы не холод и сквозняки. Особого внимания на выправку солдата и хождение в строю у нас не обращалось. Отданию чести и фронту тоже не очень-то много посвящали времени, чем, конечно, мы резко отличались от пехоты.
Как я ни был подготовлен разговорами в Правоведении к своеобразию военной службы, ее обычаям, строгости, все же контраст между штатской идеологией и военной, к тому же гвардейской, был слишком резкий, и моя психика перестраивалась очень медленно. Только надев военный мундир, я понял, что, в сущности, мы в Правоведении абсолютно не знали, что такое военная служба. Наши мальчишеские разговоры касались только внешней стороны этой службы. Мы не представляли себе, что на военной службе ежеминутно могут возникнуть задачи, которые надо тут же самому решать. Понимать и учиться решать эти задачи надо было на ходу. Никаких учителей – как говорить, как ходить, что делать и как делать – у меня не было. Да и обращаться за советом к учителю не было времени. Нужна была сильно развитая интуиция, смекалка, для быстрого решения бесконечно разнообразных вопросов, встающих в ходе общения с солдатами и офицерами и, как правило, являющихся результатом крайне неопределенного нашего служебного положения. К тому же моя природная «людобоязнь», застенчивость и робость очень вредили мне. Я смущался, от смущения терялся и делал ошибки, которые заставляли еще больше смущаться. Таким образом, приходилось учиться на собственных ошибках. Никаких учебников тоже не было. Устав внутренней службы давал ответы только формальные, не вдаваясь в объяснение моментов психологических, социальных и светских.
Запомнился первый мой неудачный дебют, когда я явился впервые на занятия пешего строя. Степан Петрович приветствовал меня ободряюще и предложил встать в строй на левом фланге шеренги солдат. Я встал не вплотную к локтю левофлангового, а на некотором расстоянии. Зайченко подвинул меня, но я опять отодвинулся. Я стоял так, как стояли в строю правоведы. Вошел в манеж поручик Перфильев и поздоровался с командой. Вахмистр доложил ему о появлении в команде вольноопределяющегося. Перфильев спросил меня, как моя фамилия и я, отдав ему честь, назвал себя, он спросил, не брат ли я гродненского гусара? Я отвечал утвердительно, держа руку у козырька, не подозревая, что это противоречит уставу (в строю честь не отдаётся). Между тем, в Правоведении мы отдавали честь, находясь в строю, но я не знал, что там мы были на положении офицеров, а солдатам в строю честь отдавать не следовало. Перфильев отошел от меня, не сделав мне замечания, но только приказал вахмистру заняться со мной. Тут я постиг и эту премудрость, и тогда меня поставили в строй «по ранжиру». Я оказался шестым от левого фланга. Рост мой был 2 аршина 6 вершков. Ниже меня стоял потом Мезенцев Михаил, а немного выше Штукенберг. На правом фланге встал Мезенцев Александр.
Мой рост считался нормой гвардейского солдата. Ниже 2 аршинов и 6 вершков в гвардию попадало очень мало солдат. В лагерях, после учебной команды, в строю 1 батареи, где я служил, я стоял вторым на правом фланге, но по росту должен был бы быть первым. Правофланговый должен хорошо знать все команды и вести за собой всех, стоящих в строю, а на меня начальство, не без основания, не очень надеялось, боясь, что я что-нибудь напутаю.
Зато мне была оказана высокая честь находиться на правом фланге батареи при прохождении ее на «высочайшем» смотру в Царском селе мимо августейшего шефа – Николая II, в мае 1913 года.
Запомнилась любопытная деталь. Сначала было получено распоряжение, что царь будет смотреть батарею в пешем строю. Так как пешим строем у нас никогда особенно не занимались, то начальство страшно перепугалось. До смотра оставалось три дня. Начались усиленные репетиции парада, с прохождением церемониальным маршем мимо командира бригады, генерала Орановского, который злился, кричал и бесновался, видя исключительно расхлябанный, корявый, сумбурный марш наших солдат, совсем не имеющих вида не только гвардии, но даже захудалой армии. Офицеры тоже лезли вон из кожи, чтобы придать нашему строю мало-мальски приличный вид. Наконец, кто-то догадался вызвать трубачей, дело пошло тогда лучше. Все как-то подтянулись. Но все же вид наш был неудовлетворительный. Нам прежде всего не хватало бравой солдатской подтянутости, того безукоризненного изящества движений, которым умеют блеснуть хорошо обученные воинские части. Движение наше в строю не составляло единого гармонического целого, в котором неразличимы отдельные человеческие индивидуальности, а мы были лишь подученные шагать в ногу разные Савченко, Зайченко, Григоренко, Новиковы, Семеновы, Тимофеевы.
Надо заметить, что перед смотром суетилось и волновалось одно только начальство. Солдаты оставались совершенно спокойными. От старшего поколения гвардейских солдат они знали, что бояться царя нечего. «Все равно, как мы ни пройдем перед ним, он скажет нам «спасибо». И стараться не надо и пужаться тоже без надобности». Действительно, не было случая, чтобы Николай выразил на смотре когда-нибудь свое неудовольствие, хотя он, как прирожденный военный, хорошо знал разницу между отличным строем и плохим.
На репетиции парада царя изображал берейтор на рыжей лошади, перед которым мы и проходили, пожирая его, как полагалось, глазами.
Волнения начальства оказались напрасными. Царь смотрел нас в конном строю, без пушек. Вся церемония носила очень будничный вид. Присутствовали лишь все гвардейские начальники, среди которых выделялся толстый генерал с рыжеватой бородкой, в какой-то фантастической форме. На кивере у него был целый букет перьев разной величины, как у принца Мюрата, зятя Наполеона. Генерал очень любовался собой. Это был Сухомлинов, военный министр.
Солдаты оказались правы. Мы получили царское «спасибо», а по окончании парада царь поздравил командира Конной артиллерии с зачислением в царскую свиту, что давало ему придворное звание и право именоваться «свиты генерал-майор Орановский». Это почетное звание распространялось только на первый генеральский чин – «генерал-майора». При производстве в генерал-лейтенанты свитские вензеля с погон и аксельбанты снимались. Генерал-лейтенанты получали другое, высшее придворное звание: генерал-адъютанта.
В последние годы перед Революцией царь очень легко жаловал командиров гвардейских полков и их адъютантов в свою свиту. Вошло почти в закон, что посещая какой-нибудь полк, царь непременно давал свитские аксельбанты командиру и адъютанту. Если этого не случалось, то общественное мнение терялось в догадках и объяснениях, – чем было вызвано поведение царя в данном случае? Поэтому, при выборе себе адъютанта, командиры всегда имели в виду возможность его назначения в свиту. Выбирались всегда офицеры более родовитые, более светские. Назначение в свиту командира и адъютанта рассматривалось обычно не как личная их награда, а как честь, оказываемая царем всему полку. Вот почему никто не сомневался, что после награждения Орановского (общее мнение: совершенно незаслуженного), царь, посетив Конную артиллерию, даст свои вензеля и адъютанту, А.П. Саблину. Этого не случилось.
Никто не мог понять причину такой несправедливости. Конечно, в жизни конной артиллерии было много такого, за что ее нельзя было гладить по головке, – я надеюсь об этом написать дальше. Но раз уж Орановский – этот тупой, недалекий командир и фатальный неудачник был награжден, то, казалось, не было основания для того, чтобы обижать Саблина. Надо думать, что здесь действовали какие-то скрытые и влиятельные силы. Награждая Орановского, Николай проявил свою волю самодержца. Этот акт мог очень не понравиться великим князьям Николаю Николаевичу (начальнику гвардии), Сергею Михайловичу (генерал-инспектору артиллерии, конно-артиллеристу) и Андрею Владимировичу, ожидавшему назначения командиром Конной артиллерии. Они могли протестовать против награждения Конной артиллерии почетными отличиями. Но получилось так, что за грехи Орановского был наказан Саблин.
Интересно отметить, что Александр III давал придворные звания чрезвычайно скупо. За пятнадцать лет своего царствования он сделал только трех камергеров (в том числе Акимова).
При взгляде на большинство солдат гвардейских полков – каких-нибудь Семеновцев, Преображенцев или Кавалергардов – трудно было бы не отметить их необычайной картинности, щеголеватой подтянутости и внешней привлекательности, – хоть с каждого пиши портрет.
Между тем наши конно-артиллеристы не могли похвастаться ни доблестным солдатским видом, ни красотою. Они были, за редким исключением, достаточно мешковаты и корявы. (О том, как пополнялись наши батареи солдатами, см. дальше).
…Несколько труднее давалось нам гимнастика на снарядах. Вольные движения с палками проходили легко. А вот злосчастная «кобыла» и прыжки с шестом нас донимали крепко. «Кобылу» мужественно перепрыгивал Штукенберг. Мезенцев и я мучились на ней. Но самыми тяжелыми были турник и кольца. Больше двух раз я притянуться на кольцах не мог. Но вот однажды, когда начальник команды Линевич вдруг вызвал на занятия пешего строя трубачей, произошло чудо. Под четкий ритм вальса все делалось несравнимо легче, и на кольцах я совсем свободно подтянулся четыре раза! Тут-то я впервые постиг громадное значение музыки. Другой раз я это испытал при переходе из Павловска в Царское село (три версты), когда мы шли на «высочайший смотр». Этот марш, благодаря трубачам, мы сделали шутя, совсем незаметно. В конных занятиях очень большое значение имело, на какой лошади приходилось ездить. Меня выручали необыкновенный ум моего коня Донца и его знание строевой службы. Мне не надо было им управлять, он сам, по своей инициативе, выполнял все команды. Мои товарищи смеялись надо мной и спрашивали, что я буду делать, если Донец захромает или его отдадут кому-нибудь другому. Смеялись и над тем, что я не знал Донца «в лицо».
Действительно, если около Донца не было моего рехмета Соловьева, то я никогда не мог его найти в общей массе лошадей. То, что мне бывало от этого очень стыдно, ничего не меняло. У меня ужасная память на лица, как людей, так и животных. Я бывал поражен, когда Александр Мезенцев мог назвать по именам и показать всех лошадей нашей команды.
Позднее я узнал, что офицер первой батареи Латур де Бернгард страдал тем же неудобным для кавалериста недостатком. Когда над ним посмеивались товарищи, он говорил, что ему совсем нет необходимости искать и запоминать приметы своей строевой лошади, на что ушло бы очень много времени, поскольку есть Шкуренко, его вестовой, которого он сразу узнает, а не узнает, так тот ему крикнет: «Здесь, Ваше благородие».
Солдат, которому доставалась плохая лошадь, бывало, очень страдал от ее тупости, упрямства, злобы и всяких лошадиных пороков, так называемого «норова», да и от тряски. Конечно, все недостатки коня вымещались на спине всадника. Хотя и предполагалось, что в учебной команде должны быть лучшие лошади, однако, попадались такие, от которых хотел избавиться тот или иной строевой начальник, прежде всего – господа вахмистры, которые при слабом командире батареи пользовались всей полнотой земной власти (например, в 4-й батарее у гр. Кутайсова).
Все начальники в конной артиллерии здоровались с солдатами так: «Здравствуйте, братцы». Один Линевич постоянно варьировал свое приветствие, не придерживаясь штампа: «Здорово, орлы!», «Здравствуйте, герои!», «Здравствуйте, молодцы!» Солдатам это нравилось.
Конечно, уже никто из офицеров не приветствовал солдат: «Здорово, ребята!». Это считалось очень дурным армейским тоном. Увы, мне пришлось еще услышать такое обращение к солдатам в 6-м запасном кавалерийском полку. Так здоровались старые ротмистры из армейских бурбонов или неудачников. После того как царь на параде поздоровался с нами: «Здравствуйте, конно-артиллеристы!», – командир нашей бригады, Орановский, тоже стал так здороваться.
Солдаты Донской батареи составляли в учебной команде отдельный взвод. Все строевые занятия, кроме конных, мы проводили вместе с ними. Манежную езду донцы проходили в отдельной смене. Линевич здоровался с ними так: «Здорово, станичники!».
Донцы очень резко отличались от остальной массы солдат учебной команды, среди которых большинство было украинцев или жителей южных русских губерний: Курской, Воронежской, Саратовской. Держались донцы всегда особняком, довольно презрительно относясь к хохлам и москалям. Все они очень гордились тем, что служат на своем коне и в своей «исправной одёже». Материальное благополучие выпирало из всех их пор.
Освещалась казарма керосиновыми лампами. Однажды в отделении донцов лопнуло стекло у «молнии». Взводный, тупой и недалекий москаль, принес новое стекло и стал показывать дневальному донцу, как надо его вставлять в лампу и следить, чтобы лампа не коптела. Надо было видеть, с каким презрением смотрел дневальный и его товарищи-донцы на взводного, и наконец один из них прервал его объяснения, сказав: «Ты не тужься объяснять. Небось, дома лучиной управлялся, а у меня дед еще с Турецкого похода лампу привез». Взводный поспешил уйти, что-то сконфуженно пробормотав, а станичники еще долго галдели и громыхали по поводу невежества москалей.
Вид у станичников был свирепый. Бородатые, косматые, чубатые, они могли при встрече напугать не только ребенка. Между прочим, они очень неохотно носили бороды. Но это была традиция батареи. Борода их совсем не украшала и очень старила. Ввели ее в обиход вернее всего из тактических соображений – для устрашения врагов.
Действительно, когда один из самых страшных донцов, отслужив свой срок, собрался ехать домой, то первое, что он сделал – это сбрил бороду, и превратился в очень благообразного мужичка, из тех, что «по старой вере».
В этом же взводе донцов служил и Кухтин, «герой» гражданской войны на Дону. Он ничем тогда не выделялся из общей массы других станичников. Конечно, если бы я знал, что он когда-нибудь войдет в историю, я пригляделся бы к нему более пристально.
Мы, вольноопределяющиеся, имели вне строя мало точек соприкосновения с донцами. У них же с «иногородними» солдатами шла глухая подпольная война. В перерыве между занятиями мы проводили время со своими батарейцами, и к донцам без дела не заходили. Однако Александр Мезенцев с ними подружился на «лошадиной» почве, часами обсуждал достоинства какого-нибудь коня. Он находил с ними общий язык, умело играл на их кулацком мировоззрении. Конечно, он знал все их прозвища по станицам, как кого «величают», у кого какое хозяйство, и какая семья. И Мезенцев из нас всех пользовался у казаков наибольшим авторитетом, к тому же он носил усы, а мы все были бритые.
Один донской хлопец очень переживал, не получая писем из дома от своей молодой жены. Это служило предлогом для постоянных шуток над ним его товарищей-донцов. Александр Мезенцев тоже принимал участие в этом развлечении молодых кобелей. Казак довольно добродушно отругивался. Но вот как-то один из солдат-хохлов, позволил себе тоже включиться в эту игру и не очень вежливо отозвался о супруге «сына Дона». Тот рассвирепел и бросился на хохла с кулаками, защищая честь своего семейного очага. «Quod licet Iovi, non licet bovi»12.
С нами, вольноопределяющимися, казаки держали себя с достоинством, скорее дружелюбно, чем безразлично. Они чувствовали себя более ровней нам, более классово близкими, чем солдатам. В разговорах с нами они как бы подчеркивали, что они не хохлы, и не им чета – знают хорошую жизнь. Однако культурный уровень их был крайне низкий, и по развитию они ничем не отличались от ненавистных им москалей и хохлов.
Я не сомневаюсь, что Кухтин, встретившись с нами на поле гражданской войны, прикончил бы нас с удовольствием, независимо от того, к какому лагерю мы принадлежали: к белым или красным, по очень уважительной причине: «Дон – казачья земля, а вы зачем туда пришли?» На этом основании прикончил бы и Александра Мезенцева, хотя не раз мирно беседовал с ним, покуривая его папиросы.
Донцы получали много пищевых посылок из дома. Свиное сало поедалось ими в большом количестве. Постоянно можно было видеть их в часы отдыха, попивающими жидкий солдатский чай с сахаром внакладку, приправленный добрым куском сала и закусывающими это месиво лепешками (коржиками).
Надо заметить, что из солдат-батарейцев нашими симпатиями пользовались как раз хохлы, а не москали. Украинцы были в обращении проще, искреннее, непосредственнее, чем русские, которые всегда, несмотря на улыбочки, таили что-то про себя.
Впрочем, и среди москалей были очень приятные и славные люди, как, например, Чирец. Он был мой сосед по правому локтю в строю. У себя на родине, где-то на Смоленщине, он был волостным писарем. Очень тихий, скромный, но какой-то хилый, он не пользовался любовью господ офицеров. За малейшую неисправность или ошибку его ругали больше других. Поручик Перфильев не раз хлестал Чирца стеком за отсутствие у него солдатской выправки.
Вид он, правда, имел не очень боевой. Бледный, немного сутулый, он вполне походил на сельского интеллигента, и, по-видимому, за эту самую «интеллигентность» ему и попадало. Он с удовольствием читал газеты, которые мы ему приносили. Но читал украдкой, чтобы не видело начальство. Он был во всей команде единственным солдатом, который интересовался политикой, и то в очень скромных размерах. Я уже писал о жутких сквозняках в манеже, где мы занимались строем и гимнастикой. Не знаю, как это случилось, что я не заболел тогда какой-нибудь жестокой простудой. А вот бедняга Чирец частенько болел. Его считали симулянтом. Наконец, он схватил воспаление легких, долго болел и был отправлен домой, где вскоре помер.
Конечно, у офицеров были свои любимчики среди солдат. Любили исполнительных, дисциплинированных, хорошо овладевающих строем и всякой военной наукой. Но любили и безответных тупиц, но с веселыми и всегда довольными лицами. И совершенно не терпели «выражения на лице».
«Гришин, ты опять о чем-то думаешь!?»
«Никак нет, ваше благородие…»
«То-то, смотри у меня… Бабич, чего улыбаешься?»
«Никак нет, ваше благородие», – и Бабич еще больше растягивает рот в блаженной улыбке.
«Бабич,…………., опять вспомнил, что у девок под подолом?! Или, небось, ты даже не знаешь, что у них там есть?»
«Так точно, знаю, ваше благородие».
«Что ж у них там?»
«Одна пустота, ваше благородие».
«Молодец, Бабич».
«Рад стараться, ваше благородие».
И теперь уже вся команда едва удерживалась, чтобы не заржать жеребцами, и офицеры очень довольны.
Первой по строевой подготовке, по лихости и боевому духу у нас считалась 2-я батарея имени «генерал-фельдцигсмейстера, Его Императорского Высочества великого князя Михаила Николаевича» – брата Александра II. Линевич, начальник учебной команды, и его помощники, офицеры Перфильев и Барановский, были тоже чины 2-й батареи. Поскольку между батареями шло соревнование за первое место, то, естественно, Линевич старался, чтобы первыми по успехам были солдаты 2-й батареи. Однако второй уж год подряд получалось так, что отличниками в ученье и в строю были солдаты 1-й батареи «Его величества», несмотря на покровительство Линевича своим солдатам, то есть солдатам 2-й батареи, курс учебной команды с нами вместе закончил с отличием Шаев, солдат 1-й батареи. И только третье место занял кто-то из солдат 2-й батареи, к великой досаде господ офицеров этой батареи.
2-я батарея кичилась своей лихостью и боевым, гусарским духом. Ей очень легко удавалось пускать пыль в глаза начальству в мирной лагерной обстановке. Ее командир, полковник Гриппенберг (сын известного генерала, командующего армией в Японскую войну), предпочитал вести свою батарею на ученье всегда галопом. Это могло нравиться лагерному начальству. Но посвященные в тайны конной артиллерии знали, что Гриппенберг, потерявший одну ногу в войну с Японией, совсем не мог ездить рысью, и галоп для него был самый удобный аллюр. О подвигах 2-й батареи в войне с Германией я ничего не знаю и не слыхал, а командир 1-й батареи Эристов показал себя выдающимся артиллеристом, о чем я надеюсь рассказать позднее. Надо заметить, что военной наукой нас не очень донимали. В этом, как и во многом другом, мы очень отличались от пехоты. Мы изучали уставы: внутренней службы и гарнизонный. При этом от нас требовали не зубрежки параграфов устава, а общего знания и, главным образом, уменья быстро найти в уставе нужный параграф, приноровленный к определенному случаю военной службы. Конечно, мы должны были хорошо знать обязанности дневального, дежурного, караульного начальника и разводящего. Нас практически много тренировали на этих ролях, считая, что самое главное – это понимание требований устава, а не его зубрежка.
Батареи были вооружены 3-х дюймовыми легкими полевыми скорострельными пушками. В каждой батарее – шесть орудий (три взвода). Во время войны 1914 года третий взвод упразднили и в батарее стало 4 орудия (два взвода).
Как это ни странно, но мы очень мало занимались изучением пушки, из которой мы должны были уметь стрелять. Правда, однажды как-то мы ее разобрали, посмотрели ее составные части, постарались запомнить их название. Потом провели немного занятий у орудий на плацу. Поучились строить «параллельный веер», то есть выравнивать все четыре орудия строю параллельно. В этом деле, которое является азбукой артиллериста, мы заметили некоторую неуверенность в объяснениях наших офицеров. Впоследствии я узнал, что офицеры-артиллеристы, окончившие Пажеский корпус, далеко не все владели безукоризненно этой премудростью. Должен сознаться, что никогда, в учебной команде, ни потом в батарее, я не умел строить этот «веер», да и не очень-то к этому и стремился, считая это делом, не имеющим никакой практической ценности. Ближе к весне мы стали заниматься при орудиях примерной стрельбой. Все солдаты должны были уметь исполнять обязанности каждого номера орудийного расчета. Каждый должен был уметь обращаться с прицелом, поставить трубку на заданную дистанцию, зарядить пушку и пр. Все это делалось для того, чтобы во время боя иметь возможность заменить выбывшего товарища. Надо признать, что учебная команда очень мало давала знаний для прохождения службы младшего командного состава (младших и старших фейерверкеров). Все, что изучалось, мы знали очень поверхностно. Для вольноопределяющихся все эти науки были новые, тогда как наши товарищи-солдаты до поступления в учебную команду уже служили год, и, будучи молодыми солдатами, еще в батареях познакомились и со строем, и с верховой ездой, и с пушкой, учили и уставы. Так, эта учебная команда должна была только суммировать их знания, и выявить наиболее достойных для производства в старшие фейерверкеры и назначения на младшие командные должности: взводных, орудийных начальников и пр. Чистке лошадей придавалось большое значение, так как будущие фейерверкеры должны были обучать молодых солдат уходу за конями.
Линевич был сам очень хороший наездник. Но научить ездить он не умел, так как был крайне невыдержан, неуравновешен, нетерпелив и сумбурен. Если бы солдаты учились ездить только в учебной команде, то вряд ли бы они смогли бы научиться хорошо владеть конем.
В нашу учебную программу входило обучение рубки лозы и глины, в пешем и конном строю. Но никто не умел рубить, за исключением нескольких солдат. У многих лошадей уже были отрублены уши. Это являлось результатом неудачной рубки с коня. Кое-кто из офицеров неплохо рубил лозу в пешем строю, но не умели рубить с коня, кроме Линевича, который рубил артистически на всех аллюрах. Очень хорошо рубили донцы. Хуже всех москали.
После нового года к нам в учебную команду прислали молодого солдата Мейера. Он был сын умершего офицера армейской артиллерии. Образование получил всего пять классов гимназии, что не давало ему права на отбывание воинской повинности вольноопределяющимся 1-го разряда. Но и для 2-го разряда (т.е. служить два года, вместо солдатских четырех) надо было иметь аттестат за шесть классов. Его мать хлопотала определить сына в гвардейскую конную артиллерию, где ей казалось, что к ее сыну будут относиться лучше, чем в какой-нибудь другой части и где служба легче. Это была роковая ошибка. Офицеры не признавали его своим и не хотели знать его офицерского происхождения. С солдатами он себя держал несколько отчужденно. Обижался, когда они обращались с ним запросто, по-товарищески. Но и с нами, вольноопределяющимися, у него отношения не наладились. Он был довольно тупой малый, малоразвитый и какой-то нескладный и «недоделанный», как называли его солдаты. Никаких общих интересов у нас не было, кроме службы, да и ту мы несли по-разному.
Мы сначала приняли в нем большое участие, считая, что попасть в солдатский котел человеку другого общества, другого воспитания, должно было быть очень невесело. Но вскоре мы убедились, что Мейер малый довольно пустой, умственно ограниченный, но с большими претензиями. Его внутреннее состояние заключалось в какой-то роковой «обиде». Обида на всё и всех. И на свою судьбу, и на школу, которую он не кончил, на офицеров, которые не очень деликатно третировали его, как простого, рядового солдата, и на солдат, которые над ним слегка подсмеивались и не хотели признавать его выше себя. Конечно, обида была и на нас, что мы были на особом льготном положении в команде. Эта была «обида» такого рода, с которой, наверно, родятся, живут и умирают армейские пехотные офицеры, обиженные судьбой, царем и обществом. Служить Мейеру было еще трудно потому, что он был какой-то скованный, неловкий и неповоротливый – «корявец», как называли таких солдат офицеры. Не знаю, куда он делся по окончании учебной команды. Ему, конечно, лучше бы было служить нестроевым, каким-нибудь писарем или каптенармусом. Потом началась война… Но вот в 1919 году, когда я ехал с командой красноармейцев на Гатчинский фронт, то на Варшавском вокзале вдруг встретил Мейера. Он узнал меня. На нем была фуражка с каким-то техническим значком и работал он где-то техником. Держался он вполне уверенно, и мне показалось, что наконец-то человек нашел свой путь.
В Павловске кроме 5-й и 6-й конных батарей, а также нашей учебной команды, были еще размещены Гвардейский Сводно-Казачий полк и гвардейский тяжелый мортирный дивизион. У наших солдат конной артиллерии были вполне добрососедские отношения с казачьим полком, командиром которого был свиты генерал-майор граф Граббе 1-й, и постоянная вражда с солдатами мортирного дивизиона. Их презрительно называли «пижосами» и подвергали всяким насмешкам. Впрочем, такое же отношение было к ним и со стороны наших офицеров.
Наш большой манеж был гарнизонным. В нем проводили поочередно занятия верховой ездой все части, квартирующие в Павловске. Мы начинали ученье там в 10 часов, а до нас и после нас ездили другие смены. Обычно после нас занимались наши офицеры под руководством старшего полковника, барона Велио, командира 5-й батареи. Также два раза в неделю ездили и офицеры мортирного дивизиона, под командой их командира, уже не молодого полковника. По уставу полагалось, если во время строевых занятий появлялся кто-нибудь из офицеров старше чином того, кто проводил занятие, то следовало остановить занятия и скомандовать: «Стой. Смирно! Господа офицеры!» Вошедший, обратившись к офицерам, говорил: «Господа офицеры», и, если был офицером своей части, то мог поздороваться с солдатами, а если чужой, то ограничивался тем, что, обратившись к руководителю занятий, говорил: «Продолжайте, пожалуйста».
Так вот у наших господ офицеров считалось хорошим тоном не замечать «пижосов», офицеров мортирного дивизиона, и ничего им не командовать, делая вид, что они их не заметили, хотя не заметить их было невозможно уж по одному тому, что наш вахмистр следил пристально за появлением каких-нибудь других офицеров и тут же потихоньку докладывал об этом нашему начальнику. Вполне понятно, что «пижосы» имели основание обижаться.
Как-то раз Линевич разошелся и задержал нашу смену сверх положенного по расписанию срока. Между тем, после нас должны были проводить езду мортирные офицеры. Они уже все собрались и, покуривая, посматривали на часы. Верховые держали лошадей. Наконец, пришел их полковник и спросил, почему они не начинают езду? Ему, очевидно, ответили, что манеж занят. Он громко крикнул Линевичу, который не замечал прихода полковника: «Капитан, освободите манеж! Ваше время давно истекло». Тут только Линевич «заметил» старшего начальника, остановил смену, скомандовал «смирно». На эту команду полковник ничего не ответил, что полагалось, и, подозвав Линевича к себе, начал его отчитывать за нарушение правила устава, заставив его держать руку у козырька и нас в положении «смирно», пока не излил ему все накипевшее у «пижосов» чувство обиды. Впрочем, от этого внушения отношение между соседями не стали лучше.
Я думаю, что конфликт между нашими офицерами и «пижосами» мортирного дивизиона был значительно глубже и серьезнее, чем традиционное презрительное отношение всякого верхового к пешему, конного солдата к пехотинцу. Дело было не в том, что кавалеристы кричали проходящему пехотному полку: «……………, пехота, не пыли».
Здесь у нас, в Павловске, столкнулись две «идеологии», два понятия о военной службе, аристократы с плебеями, очень глубокое различие между отношением офицеров к службе, к пониманию сущности этой службы. Наши офицеры считали, что «Гвардейская конная артиллерия» – это, прежде всего не воинская часть, а нечто вроде клуба, куда допускаются немногие, и только те, кто разделяет основное положение, что конная артиллерия – это общество офицеров, общественная, аристократическая по своей природе организация, как есть другие подобные организации: кавалергарды, гусары, уланы и пр. Очень ясно изложил нам эту концепцию поручик Перфильев: «Мы не артиллерия, не кавалерия, не пехота, а мы «гвардейская конная артиллерия». Мы общество офицеров с определенными вкусами, традициями, взглядами на жизнь. Кому не нравится наше общество, могут найти себе другое, по вкусу».
Тоже самое написал А. Игнатьев в своей книге «50 лет в строю» о кавалергардах, которые смотрели на свою службу в этом полку, как на наиболее приятное для них времяпрепровождение в очень приличном обществе, как на аристократический военный клуб, где солдаты и лошади являются лишь аксессуарами более или менее стеснительными, в зависимости от того, как кто умеет ими пользоваться. Впрочем, ведь есть вахмистры, которые прекрасно знают, что надо делать с солдатами и лошадьми. Для наших господ офицеров к солдатам и лошадям присоединялась еще пушка, – неприятная обуза для многих. Но, в конце концов, вахмистры и фейерверкеры (унтер-офицеры) тоже знали, что с ней надо делать. «Я служу в гвардейской конной артиллерии не потому, что я люблю пушку и лошадь, а потому что мне нравится то общество офицеров, которое называется «гвардейской конной артиллерией».
Необходимо заметить, что и у нас, и у кавалергардов были настоящие специалисты военного дела, хорошие строевики и артиллеристы. Это показала война. Но в мирное время эти мастера, военные-профессионалы, держали себя скромно и незаметно, как бы не желая вносить диссонанс в гармоническое единство своего аристократического клуба. Над такими энтузиастами и знатоками военной службы прочие господа офицеры немного подтрунивали, но, в общем, уважали их, и признавали их бесспорный авторитет в деле организованного человекоубийства.
Таким мастером, настоящим артистом артиллерийского искусства был, например, полковник кн. А.Н. Эристов, командир 1-й батареи. Кавалергарды-офицеры тоже показали себя молодцами в войну. Не их вина, что полностью обнаружить свои кавалерийские качества они не могли в условиях позиционной войны. Но и в пеших столкновениях с неприятелем они проявляли исключительную храбрость. При атаках в пешем строю они не ложились под огнем неприятеля и давали себя убивать, считая «неудобным» прятаться от вражеских пуль! Конечно, они несли большие потери при таком античном ведении боя. Что касается до солдат этого полка, то они, как и другие солдаты гвардейской кавалерии, воевали очень неохотно. Впрочем, строевую службу военного времени они несли хорошо. У нас говорили, что когда кавалергарды в сторожевом охранении, тогда можно спать спокойно. По-другому мы себя чувствовали, зная, что нас охраняют «желтые» кирасиры13.
Совсем другое отношение к военной службе наблюдалось у пехотных артиллеристов и, в частности, в мортирном дивизионе, где служили всерьёз специалисты военного дела, профессионалы…
В средине зимы мы одну из комнат нашей квартиры сдали подпоручику этого дивизиона, только что окончившему Константиновское артиллерийское училище14. Надо было послушать, с каким восторгом он говорил о своих мортирах, о службе, о своих познаниях в артиллерии, о своем учении. Как он гордился тем, что окончил училище с отличием, что дало ему право поступить в гвардию! Так вот, именно знания открыли ему двери в гвардию. Только лучшие ученики артиллерийских училищ могли служить в гвардейских частях. Они комплектовали 1, 2 и 3 гвардейские артиллерийские пехотные бригады, и только как редкое исключение попадали из училищ в гвардейскую конную артиллерию. Все остальные наши офицеры пришли к нам из Пажеского корпуса. Только четверо были из вольноопределяющихся (Гагарин, Мейендорф, Барановский, Угрюмов). На всю первую батарею, насчитывающую десять офицеров вместе с командиром, было только два офицера, окончивших училища: Эристов и Данилов. Остальные восемь были пажи.
Между тем, трудно себе представить пажа, который пошел бы служить в мортирный дивизион.
Для того, чтобы служить в гвардейской конной артиллерии, требовалось согласие всех господ офицеров этой части. Такова была традиция гвардии, её неписаный закон. Кандидат баллотировался, как в члены клуба. Достаточно было одного голоса против, чтобы подавшему просьбу было отказано принять его в часть. «Вставили ему перо», – как говорилось в офицерском обществе. Обычной формой отказа было «неимение ваканций».
Отказ от принятия в какой-либо из гвардейских кавалерийских полков имел очень серьезные последствия для молодого офицера. Если это делалось известным, то, как правило, это закрывало ему двери во все другие полки гвардии. Впрочем, бывало и так: какого-нибудь NN из хорошей родовитой семьи не приняли в кавалергарды только по той причине, что там его никто не знал, и при баллотировке про него никто ничего не мог сказать ни плохого, ни хорошего. А в Уланском полку у него были знакомые офицеры, которые могли его рекомендовать своим товарищам, и его принимали. Но вот вдруг уланы узнавали, что NN не был принят кавалергардами. Тогда выяснялась причина отказа. Если ничего порочащего NN кавалергарды не сообщали, то он мог благополучно продолжать службу в уланах.
Вообще не быть принятым в какой-нибудь из гвардейских кавалерийских полков считалось очень позорным. Вот почему все переговоры о поступлении в полк пажа или юнкера-выпускника начинались задолго до окончания военного училища и велись в строжайшей тайне. Для положительного ответа надо было иметь знакомых офицеров, лучше всего таких, которые пользовались авторитетом в полку. Эти знакомые щупали почву, выясняли путем закулисных, конспиративных разговоров с офицерами, какие шансы у молодого кандидата для поступления в полк. Таким образом, кто-то из офицеров должен был выступать в роли адвоката, и, конечно, дипломата. Когда все эти подготовительные переговоры давали основание надеяться на положительный ответ, NN являлся в канцелярию полка, чтобы подать просьбу о принятии. Этот визит являлся в то же время и смотринами. Кандидат представлялся командиру полка, который вел с ним разговор на различные темы, чтобы лучше распознать характер и личные качества молодого человека. Этот разговор мог происходить и в присутствии старших офицеров полка, которым предоставлялось решающее слово в этом тонком деле.
А.Н. Линевич рассказывал – правда, за стаканом вина – что в некоторых гвардейских полках учиняют кандидату в офицеры нечто вроде своеобразного допроса. Задаются будто бы весьма каверзные вопросы, как например: «Вы рыбку кушаете? А свистеть умеете? Вино пьете?» Если неофит дает отрицательный ответ на эти вопросы, то его в полк не принимают, поскольку это изобличает его склонность, если не прямую принадлежность, к гомосексуалистам. На это один из офицеров заметил Линевичу, к великому удовольствию присутствующих: «Александр Николаевич, а я что-то не замечал, чтобы ты когда-нибудь свистел?»
Иногда представляющихся кандидатов командир приглашал позавтракать в офицерском собрании, чтобы посмотреть, умеют ли они прилично есть и пить.
Потом командир полка передавал просьбу NN на рассмотрение общества господ офицеров. Это был кульминационный момент в жизни молодого человека. От решения собрания офицеров зависела вся дальнейшая судьба NN. И судьба эта часто зависела от чистой случайности. Достаточно было кому-нибудь из офицеров сделать какое-нибудь ироническое замечание по поводу предлагаемой кандидатуры, чтобы насторожить остальных и заставить их воздержаться от подачи своего голоса за кандидата, хотя бы из чувства осторожности и щепетильного проявления офицерской чести: как бы чего не вышло, как бы в военных и светских кругах не стали бы говорить, что полк принял неподходящего офицера. Вот почему, как я уже писал, предварительная согласованность этого вопроса в кулуарном порядке была совершенно необходима. Все эти переговоры происходили сугубо секретно для того, чтобы NN, в случае наметившегося отрицательного ответа, мог бы вполне безболезненно для своего самолюбия и дальнейшей карьеры подать просьбу в другой полк, где у него могло быть больше шансов на успех. Вот почему было абсолютно недопустимо объявлять заранее свое желание служить в том или другом гвардейском полку, не получив ещё согласия господ офицеров. Юнкер пехотного училища Истомин, сын генерала Истомина, служащего в придворном ведомстве в Кремле, любил в разговоре часто повторять: «У нас, в Измайловском полку», намереваясь по выпуску из училища служить в этом полку. Однако, его туда не приняли, только из-за того, что он поторопился считать себя офицером этого полка, а юноша был очень скромный, благовоспитанный, но, по-видимому, довольно наивный.
Очень многое, но не все, зависело от позиции командира полка. Бывали случаи, когда желание командира часто не совпадало с желанием господ офицеров и вступало с ними в жестокий конфликт. Так случилось, например, в Гродненском гусарском полку, когда в 1911 году туда захотел выйти из Николаевского кавалерийского училища юнкер Мартовский. Офицеры отказались принять его. Мартовский был из богатой купеческой семьи, а среди младших офицеров полка сложилось мнение, что не деньги дают право быть принятым в их общество.
Командир полка, полковник Бюнтинг (сам бывший офицер Лейб-гвардии Конного полка) не согласился с мнением полкового собрания, и указал, что Мартовского в полк рекомендует великий князь Николай Николаевич. Офицеры все же возразили. У них в это время шла борьба за чистку полка и удаления из него тех, кто поступал в полк ради красивого гусарского мундира. Возглавлял это направление в полку поручик Вершинин, отличный строевик и спортсмен. Он пользовался большим авторитетом среди молодежи.
Группа офицеров, состоящая из пятнадцати человек, отправила Николаю Николаевичу петицию, в которой почтительно просила его принять во внимание их традицию: допускать в свое общество только тех, кого они знают и кого они хотят. В настоящем случае они лишь отстаивают свое право, не касаясь личности Мартовского.
Николай Николаевич рассвирепел, получив петицию. Он приказал Бюнтингу принять Мартовского своей властью. Группа «пятнадцати» заняла отрицательное положение по отношению к командиру полка. Старшие офицеры испугались окрика великого князя и решили подчиниться приказу. «Пятнадцать» решили бойкотировать Мартовского, если он наденет мундир Гродненских гусар. Об этом сообщили Мартовскому. Однако, он был настолько бестактен и самонадеян, что все же появился в полку, Несколько офицеров, в том числе Вершинин и Римский-Корсаков (Дмитрий, мой брат) не ответили на воинское приветствие Мартовского. Он пошел жаловаться Бюнтингу. Тогда Римский-Корсаков публично, в присутствии Мартовского, высказал свое мнение о его поступке. Мартовский послал к нему секундантов, Бюнтинг немедленно сообщил обо всем Николаю Николаевичу, который приказал не допускать дуэли и послал комиссию усмирить «бунт» в Гродненском полку. Дуэль не состоялась. Комиссия решила оставить Мартовского в полку, а Вершинина, как смутьяна и подстрекателя к неповиновению, уволить в отставку без права поступления на военную службу; Римского-Корсакова и ещё нескольких офицеров из наиболее недовольных – уволить в запас.
Может возникнуть законный вопрос, чем руководствовались молодые люди при выборе полка для прохождения службы?
Все гвардейские полки, за исключением 3-й гвардейской пехотной дивизии и отдельной кавалерийской бригады, находящихся в Варшаве, были расположены в столице или её окрестностях. При этом, какое могло иметь значение – служить ли в Царском Селе или в Петергофе, на Захарьевской или на Конногвардейском бульваре? Другое дело – служить ли в Сувалках или Орле, в Ельце или в Москве? Однако, не надо забывать, что служба в гвардии требовала наличия значительных материальных средств, так как на офицерский оклад жить было невозможно, находясь на службе в гвардейской кавалерии и конной артиллерии. Служба в гвардии давала одинаковые льготы всем, независимо от полка, как в кавалерии, так и пехоте и артиллерии. В гвардии производство в следующий чин происходило через каждые три года, вплоть до чина полковника. Особенно быстрое продвижение в чинах было в конной артиллерии и кавалерии, так как у них была своя очередность производства. Поэтому, как правило, полковники гвардии были не старше сорока лет, а в отдельных случаях, если они выходили в отставку, то делались генералами в возрасте 32-35 лет. Какой контраст с армией, где бывали капитаны с седыми головами, которые ждали по пятнадцать лет и больше производства их в подполковники! Офицер гвардии проходил путь от подпоручика до генерала в 15-20 лет, тогда как в армии этот путь можно было пройти лишь за 30-40 лет. Служить в гвардии всюду было одинаково трудно (в пехоте) и одинаково легко (в кавалерии и артиллерии). Легче было служить, где было больше офицеров. В кавалерии таким «легким» полком был кавалергардский, а трудным – конный (в 1914 году там было 23 офицера на четыре эскадрона) и гусарский, где было мало офицеров.
Были полки более дорогие, – как два гусарских, кавалергарды, Конный, Уланский, и более «скромные», такие, как два кирасирских, драгуны, конногренадеры.
Офицерские расходы составляли, помимо всяких обязательных полковых отчислений, ещё «манже, буар и сортир», как писал Лесков, то есть питание, выпивка и светские обязанности, требующие безупречно сшитого мундира и «содержания себя в чистоте». А мундиров должно было быть несколько (см. книгу Игнатьева). Имея в месяц 100 рублей, было очень трудно служить в кавалерии, но совсем хорошо можно было себя чувствовать в гвардейской пехоте. Впрочем, многое зависело от силы характера, выдержки и воли. Так Сергей Гершельман, когда все офицеры в собрании пили шампанское, пил только водку из самой маленькой рюмки, как ликер. Все Гершельманы в конной артиллерии умели себя так поставить, что к ним не предъявлялось никаких «винных» требований. В отношении питья им предоставлялась свобода действия: могли пить, а могли и не пить. Но, вообще говоря, пятьсот рублей в месяц необходимо было иметь каждому офицеру конной артиллерии, чтобы не прибедниваться и чувствовать себя свободно. Это не значит, что все офицеры этой части располагали такой ежемесячной суммой. Офицер, который не знал другого в жизни, кроме манежа, казарм и собрания, мог служить на значительно меньший доход. «Желтый» кирасир Жорж Левис-оф-Менар (мой двоюродный брат) служил, имея 250 рублей в месяц, а его брат Макс, тратил по тысячи в месяц и, наконец, должен был уйти из полка. Гастон Гротгус, кавалергард, женясь на Неклюдовой, собирался жить на 300 рублей в месяц. Таким образом, материальные возможности будущего офицера только отчасти могли влиять на выбор полка.
Если не было особых традиций или дружеских и родственных связей, требующих прохождения службы в каком-нибудь определенном полку (например: все Мезенцевы, Хитрово, Гершельманы, Кузьмины-Караваевы – служили в Конной артиллерии), то чаще всего полк выбирали по его репутации.
Кавалергарды – «штатский» полк. Конный – аристократический и военный (со значительным процентом нерусских фамилий). «Синие» кирасиры – службисты, «желтые» – полк прибалтийских баронов. Гусары – полк богатых аристократов. Уланы, драгуны, конногренадеры – служаки, строевики, очень консервативны и замкнуты («Петергофский гарнизон»), Гродненский – гуляки, «Уланский Его Величества» (Варшава) – спортсмены и строевики, полк скромный и приличный. К «скромным» полкам относили также синих и желтых кирасир, драгун и конногренадер. Во 2-й дивизии дисциплина была более жесткая, чем в 1-й дивизии. У синих и желтых кирасир больше спрашивали с офицера службу, чем у кавалергардов и конногвардейцев. Самым «разболтанным» полком считался кавалергардский. Впрочем, конная артиллерия ему в этом не уступала.
Игнатьев писал в своих воспоминаниях, что кавалергарды могли быть знакомы, кроме офицеров гвардейской кавалерии, только с офицерами 1-й гвардейской пехотной дивизии. 2-я пехотная дивизия считалась уже «parvenu»15. Офицеры этой дивизии в высшее петербургское общество не допускались. Во 2-ю гвардейскую пехотную дивизию входили полки: Московский, Гренадерский, Павловский и Финляндский.
Однажды, уже будучи вольноопределяющимся, мне пришлось провести вечер в обществе старших офицеров Московского полка. Мой родственник, Л.П. Римский–Корсаков был офицером этого полка. Потом окончил Военно-юридическую Академию, служил в Москве и, приехав по делам службы в Петербург, остановился у своего бывшего командира полка, генерала NN, жившего на Лиговке, за Московским вокзалом. Лиговка считалась улицей крайне дурного тона. На ней, совсем недалеко от Невского, находились «Золотые львы» – известный публичный дом. В высшем обществе старались Лиговку не замечать. Конечно, никто из офицеров 1-й дивизии не мог бы жить там. Тихая и приятная беседа, которая велась за самоваром у добродушного хозяина, генерала NN, в его очень скромной квартирке, характер и стиль разговора офицеров полка, в котором ещё не забывались вольнолюбивые традиции их однополчан-декабристов, резко отличались от развязного, наглого и самоуверенного тона разговора наших офицеров. Это были служаки, военные профессионалы, «капитаны Тушины», скромные, тихие, без отвратительного зазнайства и презрительного отношения к жизни.
Очень «светскими», шикарными считались «Стрелки императорской фамилии». Малиновые рубашки и барашковые шапочки многих соблазняли. Потом, все знали, что это любимая форма Николая II и это поднимало репутацию части. Любопытно, что остальные гвардейские стрелковые полки (2-й и 3-й) всегда забывались, когда говорили о гвардейской пехоте, и репутации у них никакой не было, – так себе, просто полки. Особое, и весьма почетное место занимал в гвардии «Саперный батальон» (полк), престиж которого умело поддерживал его командир А.А. Подымов, очень уважаемый своими офицерами и солдатами.
Свиты генерал-майор А.А. Подымов или, как звали любившие его солдаты, «Дым-Дымыч», был человек редкой души и обаятельности. Мне приходилось его часто встречать в семье военного инженера Ивана Леонардовича Балбашевского, отца моего большого друга и товарища по Правоведению. Кажется, Подымову удалось доказать великому князю Николаю Николаевичу, что для того, чтобы поднять престиж Гвардейского саперного батальона, необходимо приукрасить его внешний вид. И действительно, в предвоенные годы красивая внешность гвардейских саперов, их культурный вид обращали на себя внимание. При этом у них не было совсем забитого и замуштрованного вида, как у многих пехотинцев. Говорили, что Подымов был для солдат более, чем «отец родной», и что его отеческое чувство к подчиненным происходило из симпатий особого рода. Может быть, кое-что в его поведении давало повод для таких толков. Так, бывая у Балбашевских, он принимал самое активное участие в шумных играх и веселых забав молодежи, пажей и правоведов, матери которых умилялись, глядя на солидного генерала, бегающего с завязанными глазами, играя в «кошки-мышки», а отцы не без ехидства улыбались себе в усы. Казармы саперов были смежные с нашими, и мы знали, что саперы глубоко уважали своего Дым-Дымыча. Чем строже и требовательнее он был в строю, тем обходительнее и сердечнее вне его.
Когда после Октября офицерам на улицах столицы показываться было небезопасно, и во всех старых полках рушилась дисциплина и изгонялось или убивалось старое начальство, Подымов продолжал спокойно командовать своим полком. Он был убит шальной пулей от случайного выстрела, когда выходил на улицу из канцелярии полка.
Батареи конной артиллерии действовали вместе с частями гвардейской кавалерии и составляли вместе с ними отдельные тактические единицы, бригады, в которые входили: два полка кавалерии и одна конная батарея. Такое положение способствовало созданию большей близости между этими частями одной бригады. В какой-то мере стиль кавалерийских полков накладывал свой отпечаток на их конную батарею. Каким-то образом получилось, что офицеры в батареях подбирались согласно специфическим психотехническим особенностям этой кавалерийской бригады.
1-я батарея входила в состав 1-й гвардейской кавалерийской бригады 1-й дивизии. Полки: Кавалергардский и Конный. Трудно было бы найти другую батарею, которая по своему составу офицеров, их характеру, манере себя держать больше бы подошла к этим полкам. Здесь можно было встретить более серьезное отношение к жизни, больше мысли, более широкие масштабы и кругозоры. Здесь было больше человеколюбия и больше внимания к солдату, чем в других батареях. Здесь было больше аристократической выдержки, изысканности и тонкости, и при всем этом… хорошие боевые качества. Масть рыжая.
Гусары и драгуны. Много претензий. Много шума из ничего. Игра в энтузиазм, лихость, «мувмант». (О «мувманте» смотри ниже). Это 2-я батарея. «Где гусары прежних дней». Денис Давыдов! Ура! Масть вороная. У солдат бороды. «За дружеской беседою… и т.д.»
3-я батарея находилась в Варшаве. Расположена бок о бок с Гродненским и Уланским полками. Солдаты – саженные красавцы, как один. Господа офицеры больше проводят время в офицерских собраниях гусар и улан, чем у себя. Фактически батареей командует вахмистр Бочкарев.
4-я батарея живет душа в душу с «синими» кирасирами и равняется на них. Простые, милые люди, без каких-либо поз, вывертов, и без обременительных мыслей. Масть – темно рыжая. В боевом отношении довольно вялая и плохо обученная.
5-я батарея – полки Уланский и Конно-гренадерский. Хорошие строевики. Живут замкнуто, по-деловому. Скромно. Караковая масть.
Даже своим внешним видом, манерой держаться и характером офицеры артиллеристы напоминали своих товарищей-однобригадников. При крепкой взаимосвязи гвардейской кавалерии с конной артиллерией, офицеры артиллеристы выражали как бы суммарный характер всех строевых, воинских и светских добродетелей всей гвардейской кавалерии, являясь, в равной мере, и кавалергардами, и гусарами, и уланами. Вот почему офицеры конно-артиллеристы были вхожи всюду, где были приняты кавалеристы. Оба, самые аристократические петербургские клубы: «Яхт-клуб» и «Новый», открывали свои двери конно-артиллеристам. Они посещали и аристократические салоны графини Шуваловой, графини Игнатьевой, графини Клейнмихель. Это был «высший свет» Петербурга, le vrai beau monde16, как говорил старый князь Курагин в «Воскресеньи». В этот beau monde не могли проникнуть офицеры гвардейской пехотной артиллерии. Но, конечно, если бы случайно кто-нибудь из них туда и попал, то встретить там «пижосов» мортирного дивизиона было бы невозможно.
Интересно отметить, что такой замкнутости, классовой обособленности и аристократической отчужденности 1-й кавалер. дивизии, о которой пишет Игнатьев, во времена декабристов не существовало. Пушкинский Германн, бедный офицер инженерных войск, мог попасть на бал, где находился и князь Елецкий, кавалергард. По-видимому, по мере нарастания революционных настроений в стране, верхушка правящего класса пыталась все больше отгородиться и изолироваться от суровой правды, спрятаться даже от своих же, более скромных собратий, убежать от всего того, что могло хотя бы отдаленно напомнить о том, что, кроме Петербурга и его высшего общества, есть ещё Россия и её народ.
Таким образом, антагонизм, скрытая вражда между соседними артиллерийскими частями в Павловске носила сугубо социальный характер. Это была вражда аристократов к плебеям.
Но не следует думать, что сама гвардейская конная артиллерия была однородна по своему классовому, социальному составу. Поручики Перфильев и Угрюмов не могли бывать там, где бывал Линевич и Огарев, женатый на герцогине Сасо-Руфо. Треповы и Хитрово были своими там, где не бывали полковник Завадский и поручик Данилов, женившийся на «платочке», как говорили офицеры, и поэтому принужденный уйти из нашей бригады в Академию. Любопытно, что и генерал Орановский, наш командир бригады, вряд ли был бы принят в «Новый клуб», где играл в бридж его зять Линевич. И получалось так, что если Орановскому надо было довести о чем-нибудь по службе командиру гвардейского корпуса генералу Безобразову, то он поручал это штабс-капитану Линевичу, который за картами в клубе мог это лучше сделать, чем Орановский на официальном докладе в канцелярии корпуса. Тут уместно упомянуть о существующей с давних времен в нашей армии писаной и неписаной субординации, на что ещё указывал Толстой в «Войне и мире». По служебному положению капитан Линевич всего лишь обер-офицер, намного ниже генерала Орановского (штаб-офицера), а по положению в обществе Линевич выше Орановского, своего зятя. Линевич в клубе по-приятельски обедает с генералом Безобразовым, играет с ним в карты и рассказывает анекдоты, а Орановский мог разговаривать с Безобразовым только по службе, стоя навытяжку. Впрочем, я думаю, что такие факты должны были наблюдаться во всех частях русской гвардии, и только ли русской? Что касается до социального неравенства, то и его я наблюдал не только в конной артиллерии, но и в других воинских частях, где всегда можно было найти среди офицеров «белую» и «черную» кость.
Мне очень бы хотелось написать побольше о наших солдатах, но чувствую свою полную беспомощность. Почему? Не потому ли, что они, когда я вспоминаю их, представляются мне какой-то серой, однородной массой, из которой, как редкое исключение, выделяются единичные фигуры, но и они совсем не обладают какими-нибудь особыми индивидуальными качествам, чтобы о них можно было бы много написать. Думается мне, что тут немаловажные обстоятельством являлось то, что в учебную команду направлялись солдаты, отобранные по особому психотехническому признаку. Все батареи стремились к одной цели: получить младший командный состав, который был бы дисциплинированным и преданным, может быть не так службе, как своим господам офицерам. Здесь никаких талантов и качеств от солдат не требовалось, лишь бы слушались, безмолвно повиновались и, конечно, делали бы «веселое лицо». Все, кто обладал своими, личными, человеческими качествами, все, кто мог бы заявить о своем человеческом достоинстве, кто имел «выражение» на лице, все такие не допускались к командным должностям и были на особом счету в батареях, как беспокойный и неприятный элемент. Действительно, какой командир не пожелает, чтобы в его части все бы исполнялось быстро, беспрекословно и с удовольствием. Вот таких приятных автоматов и должна была изготовлять учебная команда. Милые, приятные парни, с добродушными покладистыми характерами, с образованием не свыше 4-х классов сельской школы, с желанием угодить «господам».
Большой процент (свыше 50%) был там украинцев, которые тогда считались менее тронутые «разлагающей» цивилизацией города, с его всякими «идеями» и направлениями. Как это ни странно, солдаты с положительной характеристикой мне запомнились хуже, чем отрицательные персонажи. Но этих у нас в Павловске было немного. Очень противным был Куриный, 1-й батареи. Он лез к нам в дружбу, надеясь как-нибудь, чем-нибудь заработать на этой дружбе. Личность была отталкивающая. В первые же дни войны он раскрылся весь. Участвуя в боях вместе с кавалерией, как доброволец, он с нескрываемым удовольствием добивал шашкой раненых немцев. Я не поручусь, что он их не обирал при этом.
Другой выдающейся личностью Павловского гарнизона был Григорьев, 5-й батареи. Развратник, пьяница, гуляка, тип удалого былинного молодца, продавшего свою душу дьяволу, нечто от Гришки Кутерьмы. Бледный, испитой, с бегающим, испуганным взглядом, он производил жалкое впечатление. Однако его очень любили господа офицеры за его удаль, за широкую «русскую душу» и особенно за его голос. Он был запевалой в хоре песенников. Голос имел небольшой (тенор) с надрывом и со слезой, как нельзя лучше подходившими к настроению пьяных офицерских собраний. Лучшим номером его репертуара был «Вечерний звон». Он был из рабочей семьи, и на его лице больного дегенерата, можно было без труда прочитать жуткую повесть его безотрадного детства и хмурой беспросветной пьяной юности. К тому же у него, очевидно, была не в порядке и щитовидная железа. Когда двадцать лет спустя я случайно встретил одного из офицеров 5-й батареи, Эндена-старшего, очень опустившегося и одряхлевшего, он меня конечно не узнал и не хотел мне верить, что я служил в Павловске. Но когда я ему напомнил о Григорьеве и о «Вечернем звоне», он встрепенулся, обрадовался, прослезился и полез меня обнимать.
Каждый раз, когда господа офицеры удостаивали нас разговором, они вспоминали двух вольноопределяющихся: Гагарина и Мейендорфа, которые только недавно закончили учебную команду. Первый из них был сыном крупного русского ученого, директора Пулковской обсерватории, князя Гагарина. Молодой Гагарин закончил Технологический институт, но, попав служить в конную артиллерию, так увлекся её «мувмантом», что решил сделаться артиллеристом. Он в одну зиму прошел курс артиллерийского училища, блестяще сдал весною труднейший офицерский экзамен и был принят во 2-ю батарею, по случаю чего отпустил себе бороду и стал похож на черного жука. Линевич говорил про него: «Он знает высшую математику лучше, чем Архимед (!). Он ещё не сдал какой-то экзамен у себя в институте и не получил значок, знаете – такой большой, с птицей, и там ещё куча разных предметов – целый солдатский вьюк. Но будьте спокойны – он эту птицу поймает». Действительно Гагарин эту птицу поймал, а после революции, как я слышал, работал на одном из наших засекреченных военных заводов.
Мейендорф был полной противоположностью Гагарина. Однако, как будто общее было – увлечение сугубым «мувмантом». Он был одним из сыновей известного генерал-адъютанта, барона Мейендорфа, начальника царского конвоя. Для характеристики этой семьи может отчасти служить такой пример. Я учился вместе с младшим из сыновей Мейендорфов, Андреем, в гимназии. Как-то я его спросил, читал ли он «Анну Каренину»? – «Да, читал, но только одно место: скачки. Мне очень понравилось. А больше Толстого ничего мне дома не позволяли читать».
Я не знаю, какое образование было у нашего Мейендорфа. Он тоже захотел держать офицерский экзамен, но способности его к математике, физике и алгебре были очень скромные, и с Архимедом (почему с Архимедом, не знаю?!) Линевич его не сравнивал. Действительно, Мейендорф уже два года подряд пытался безуспешно сдать этот злосчастный экзамен и собирался ещё остаться сверхсрочным вольноопределяющимся и на третий год, но неожиданно ему помог счастливый случай.
Мейендорф обладал одним чудесным качеством для будущего офицера 2-й батареи, качество которое нам постоянно наши господа офицеры ставили в пример: когда офицеры гуляли в собрании и вызывали песенников, то Мейендорф присоединялся к ним и, стоя в строю хора, усиленно ревел все любимые господами песни. При этом надо заметить, что ни голоса, ни слуха у него не было, но зато был… «мувмант», который так высоко ценился в этой гвардейской части.
Накануне выхода всей нашей бригады в Красное село, в лагеря, офицерское собрание конной артиллерии в Виленском переулке посетил Николай II. Посещение это не было неожиданным. Царь уже не раз бывал в собраниях полков гвардейской кавалерии. Он приезжал в гвардейские полки, чтобы отдохнуть душой. Он с удовольствием проводил время в собраниях этих полков, где он чувствовал себя более «среди своих», чем в Зимнем Дворце или в Царском Селе. Здесь он переставал быть российским самодержцем и превращался в рядового гвардейского полковника. И действительно, для него, по-видимому, узкие и мелкие интересы гвардейских полков были более понятны и близки, чем нужды Российской империи. Ему приятнее было смотреть на весёлые и довольные лица офицерской молодежи, чем ежедневно созерцать торжественно-почтительные физиономии своих придворных и надутые чванством лица министров.
Весной 1913 года он опять предпринял такое турне и уже навестил многие части, так что его появление можно было ожидать и у нас. Не забудем, что с конной артиллерией у него были особенно близкие отношения с тех пор, как он, будучи наследником (в начале 90-х годов) командовал её 1-й батареей.
Николаю, как наследнику престола, полагалось практически ознакомиться с тремя основными родами оружия: с пехотой, с кавалерией и артиллерией. Характерно, что инженерные части тогда верховным руководством армии игнорировались. Поэтому он служил последовательно в Преображенском полку, командуя 1-м батальоном, в Лейб-гусарском полку – командиром эскадрона и в конной артиллерии командиром батареи.
Царь приезжал обычно к обеду, который часто затягивался до утра. Так было и на этот раз. К концу обеда появились песенники, в рядах которых шагал на правом фланге и сверхсрочный вольноопределяющийся Мейендорф. Царь, конечно, обратил на него внимание, спросил его фамилию, узнал, что он уже третий год пытается овладеть тайнами баллистики и неорганической химии, что он по духу стопроцентный конно-артиллерист, и произвел его в подпоручики, предварительно сказав Мейендорфу, чтобы он передал поклон отцу (отец Мейендорфа был начальником царского конвоя). Тут же новому подпоручику прицепили офицерские погоны и стали их «обмывать». Николай, не желая им в этом мешать, уехал, а господа офицеры решили остаться «гулять» до утра, тем более, что в пять часов был назначен выход в лагерь.
Когда к этому часу я прибыл в батарею, то обратил внимание на странную походку господ офицеров и не менее странные лица, особенно у молодежи. Тут я узнал о «счастливом» событии. На Мейендорфа было страшно смотреть. Видно погоны обошлись ему не дешево. Однако, он геройски сел на коня и благополучно прибыл в Красное село.
Здесь я думаю, будет уместно опровергнуть ложное представление о царе Николае, как о пьянице. Ни молодым, ни в более зрелые годы он не увлекался вином. Он никогда не позволял себе лишнего глотка, и скорее поражал своей умеренностью, чем невоздержанностью. Посещая гвардейские полки, он неизменно пил только одну мадеру фирмы Крона, бутылку которой гофмаршальская часть предварительно доставляла в офицерское собрание. Однако в то же время Николай не препятствовал присутствующим офицерам пить, сколько они хотели, и к концу обеда за столом становилось довольно шумно, особенно на конце, где сидела молодежь. Разговаривали тоже оживленно, совершенно не стесняясь присутствием главы государства, священной особы русского императора.
Однажды в Конном полку произошел такой случай. За ужином говорили о солдатской храбрости и о высоко развитом у многих понятия воинского долга. Приводили примеры. Рассказывали о разных трагических случаях. Один из офицеров напомнил, как часовой у порохового погреба в одном из польских городов во время большого пожара не покинул своего поста, хотя кругом все горело. Царь спросил: «Какую награду получил часовой?» – «Ровно ничего, Ваше величество, только высочайшую благодарность». Даже Николай, не склонный вообще к юмору, и тот рассмеялся.
Обычно, когда приезжал Николай в полк, то там собирались и бывшие служащие, какие-нибудь старые генералы, а также и те, кто перешел на гражданскую службу. Так в Конном полку за царским столом находился и барон Врангель, чиновник министерства иностранных дел. В это время как раз Австрия захватила Боснию и Герцоговину (1913 год). У Сербии шел спор с Италией и Австрией по поводу Скутари, порта на Адриатическом море, который русское правительство склонно было уступить Австрии за определенную компенсацию. Наше общественное мнение, т.е. мнение петербургских светских салонов, поддерживало притязания Сербии. В военных собраниях тоже шумели по этому поводу. Говорили даже, что на границе произошел уже бой Ахтырского гусарского полка с австрийской кавалерией… И вот, когда уже были провозглашены все полагающиеся тосты, кто-то из молодых офицеров вдруг спросил Врангеля в минуту наступившей тишины: «Скажи, барон, за сколько ты со своим министром продали Скутари Австрии?». Врангель страшно смутился и не знал, что ответить. Действительно, задать такой оскорбительный для русского правительства вопрос в присутствии русского императора было необычайной дерзостью. У более трезвых офицеров от ужаса похолодели ноги. Не слышать вопроса царь не мог. Что-то он скажет? Однако, Николай лишь усмехнулся, потрогал по своей привычке усы, и, не взглянув на Врангеля, взял рюмку, отпил глоток, очень милостиво посмотрев на смельчака-офицера. Видя это, кто-то из молодых предложил выпить за Ахтырский полк… Дипломатический инцидент был исчерпан.
Об этом случае много говорили в петербургском обществе, отмечая, что случись что-нибудь подобное при покойном Александре III, то от офицера-нахала осталась бы одна пыль. Да и вообще в его присутствии никто не имел права разговаривать, и даже члены его семьи, кроме жены, не смели сесть без его разрешения. Говорили, что, если бы он был жив, то Австрия не посмела бы захватить Герцоговину, не говоря уже о Скутари. Вспоминали его исторические слова, обращенные к министру иностранных дел Гирсу во время одного из очередных европейских кризисов. В это время Александр в шхерах финляндского залива ловил рыбу и отдыхал. Все европейские правительства волновались, так как могла разразиться война и с нетерпением ожидали, что скажет Россия, на чью сторону она встанет. Гирс тоже беспокоился, а Александр молчал и никакого решения не принимал. Наконец Гирс не выдержал, отправился на яхту к царю и спросил его, что ему сказать послам европейских государств, с крайним беспокойством ожидающих решения России? «Скажите им, – ответил Александр, – что когда русский император ловит рыбу – Европа может подождать».
Недаром Горький говорил про Александра, что как царь он был «большим мастером своего дела».
Каждый полк, куда приезжал «гулять» Николай II, старался угостить его хорошими песенниками. Поэтому во многих полках гвардии на музыкальную часть обращали большое внимание. В Преображенском, Кавалергардском и Финляндском особенно хорошо было поставлено это дело. В Преображенском полку был свой оркестр, пополняемый музыкантами-профессионалами, детский оркестр народных инструментов, в котором играли дети-подростки полковой школы и, наконец, песенники, в которые отбирались солдаты с хорошими голосами. Всей этой музыкой руководили музыканты-профессионалы высокой квалификации. Начальником над всеми музыкантами-преображенцами был в мое время штабс-капитан Кутепов. У Кавалергардов тоже была полковая школа для подростков, которая с большим успехом играла в разных общественных местах. Все эти ребята носили форму полка, и было забавно смотреть на них, как они старались изображать из себя взрослых солдат. Мысль подготовлять кадры военных музыкантов была сама по себе вполне правильной, но приходилось не раз слышать плохое о моральном воспитании этих юнцов, на которых самое отрицательное влияние оказывала казарма с её крайне разнузданными нравами. Все пороки улицы большого города были им не чужды. Казармы конной артиллерии были расположены в Виленском переулке и вплотную примыкали спиной к казармам преображенцев. Поэтому, у нас всегда были очень хорошо осведомлены обо всем, что делалось у соседей, и многое приходилось слышать такого, «что не снилось мудрецам».
Солдаты, проходившие курс военных наук в учебной команде, ворчали, что им приходится нести большую служебную нагрузку, и они мечтали скорее вернуться в батарею, где они пользовались значительно большей свободой. Действительно, помимо очень частых нарядов, их редко отпускали на воскресенье в Петербург. Поездки эти совершались по увольнительным запискам за подписью Линевича. Каждую субботу нам приходилось после занятий ходить к нему проситься в «город». Он нас отпускал без возражений.
11
Возможно Мария Викентьевна Смидович. – Прим. ред.
12
«Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку» (лат.).
13
Желтый околыш фуражки и воротника мундира. «Синие» кирасиры были Кирасирского полка «Ея Величества», с синим цветом фуражки (стояли в Гатчине).
14
До революции во всей Российской империи было только два артиллерийских военных училища: Михайловское и Константиновское. Они готовили офицеров для службы в артиллерии. И, кажется, ещё в Киеве.
15
Выскочка (фр.).
16
Настоящий высший свет (фр.).