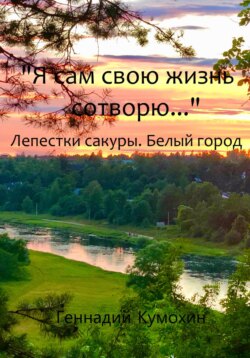Читать книгу Я сам свою жизнь сотворю… Лепестки сакуры. Белый город - - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лепестки сакуры
Отец. В Закарпатье
ОглавлениеВ тридцать шесть лет отец вышел в отставку и получил пенсию, совсем не плохую по тем временам, из-за того, что его воинский стаж приходился на годы войны и службы на границе. Одна незадача: ему не позволялось получать на работе больше определенного, кстати, совсем не высокого предела.
Поскольку на родину отца ехать было нельзя, решено было отправиться к родителям мамы, которые вслед за старшей своей дочерью перебрались жить в Закарпатье.
Несмотря на то, что отцу, как демобилизованному офицеру, полагались преимущества в получении жилья, нам пришлось еще довольно долго мыкаться по частному сектору, прежде чем мы получили в Мукачево довольно приличную квартиру в одноэтажном доме по улице Севастопольской.
Отцу приспособиться к жизни на «гражданке» оказалось очень непросто. Вернее, дело было даже не в самой гражданской работе, а в той специфической атмосфере погони за прибылью, которую отец считал наследием капиталистического прошлого. Ведь советской власти было в этих местах меньше десятка лет.
Он последовательно работал ревизором, водителем автобуса, водителем грузового такси, и, наконец, водителем такси легкового. Но везде, он так или иначе имел дело с дополнительным, «левым» заработком, а от него отца мутило, и угрызения совести не давали спокойно спать.
Ему казалось, что это только на Западной Украине такие порядки, а в России, и даже на востоке Украины люди живут по-другому, и поэтому он постоянно хотел из Закарпатья уехать. Была и другая, этническая часть этой проблемы. Отец, возможно, острее других чувствовал плохо скрываемую, а зачастую, и демонстративно подчеркнутую, неприязнь не только к русским, «москалям», но даже и к украинцам «восточникам», то есть, приехавшим с востока Украины. Он всю войну прошел в погранвойсках, поэтому не понаслышке знал, кто такие «бандеровцы», которые действовали, можно сказать, совсем рядом с Закарпатьем.
Этот рассказ об отце я написал совсем недавно. Мне кажется, что так его мысли и чувства, которые до сих пор живут во мне, можно передать более выпукло и точно.
Отец, Жаботинский и Смуженица
Если кабинет заместителя директора городского автобусного парка Ицхака Абрамовича Жаботинского часто и раньше бывал задымлен по причине пристрастия его хозяина к крепкому табаку, то сейчас он просто утопал в сизом дыму.
Ицхак Абрамович, по совместительству также парторг автопарка, напряженно думал. У него на столе лежало личное дело члена партии с 1942 года, капитана в отставке Кумохина Вениамина Федоровича, моего отца. В графе образование значилось – 7 классов, а в графе специальность и вовсе стоял прочерк. Кумохин сидел на стуле как раз напротив своего будущего начальника, но видел того как бы сквозь густой туман. Вениамин Федорович никогда не отличался богатырской статью, но против Ицхака Абрамовича он выглядел просто молодцом.
Жаботинский к тому времени, пожалуй, разменял полтинник. Он был худ и сутул, а беспрестанное покашливание явно свидетельствовало о серьезной проблеме со здоровьем. Однако энергии у заместителя директора явно было хоть отбавляй. Затушив одну папиросу, он давил ее в массивной фарфоровой пепельнице, стоящей у него на столе, тут же доставал из пачки другую и яростно ее раскуривал.
Наконец, он, кажется, принял решение.
– Вениамин Федорович, – обратился он к отцу неожиданно густым и громким голосом, – Вы надолго к нам?
– Я надеюсь, – коротко ответил тот почти по-военному, – Мукачево станет местом постоянного жительства для моей семьи. Других вариантов я не рассматривал.
– Ну, что же, – удовлетворенно кивнул парторг, – тогда мы с Вами сработаемся.
Он привстал со стула и, протянув руку через стол, сказал:
– Будем знакомы, меня зовут Ицхак Абрамович.
Улыбнулся и добавил после короткой паузы:
– Ну, рассказывайте.
Вениамин Федорович пожал протянутую ему мягкую, как будто бескостную белую ладонь и удивился тому, как он до сих пор не заметил, какой добрый и отзывчивый человек товарищ Жаботинский.
– А что рассказывать? – не понял он, но тоже улыбнулся.
– Все рассказывайте. Как живете, есть ли квартира? Ведь мы можем…, – Жаботинский покрутил головой, посмотрел на собеседника по-сорочьи, боком, – да, к сожалению, у нас нет квартирных фондов, но мы можем ходатайствовать перед райисполкомом.
– Спасибо, – ответил Вениамин Федорович, – это было бы очень кстати. Мы стоим на очереди, но она продвигается очень медленно.
– Вот и прекрасно! – воскликнул Жаботинский, – после нашего разговора зайдите в канцелярию и Вам оформят соответствующий документ. Я сейчас распоряжусь.
– А как жена, дети? – продолжал он расспросы.
– Трехлетняя дочь у нас слабенькая, часто болеет, поэтому мы не можем определить ее в садик, да, говорят, и мест там сейчас нет.
– Ну, место в садике мы для Вас отыщем, и жене работу у нас найдем. У меня как раз одного кассира на автовокзале не хватает, – все так же с энтузиазмом подхватил Ицхак Абрамович, – а еще дети есть?
– Сынишке старшему седьмой годик. Осенью в школу пойдет.
– И где он у вас?
– На улице болтается. Где ему еще быть?
– Дорогой Вы мой! У нас в селе Плоском прекрасный ведомственный пионерлагерь. Горный воздух, рядом минеральный источник – что еще ребенку для здоровья надо? Сейчас как раз формируется первая смена.
– Ну, что, договорились? – проговорил он почти без паузы, – тогда завтра-послезавтра можно выходить на работу.
– Ицхак Абрамович, – озадаченно проговорил отец, – но Вы так и не сказали, какая у меня будет работа.
– Разве? – притворно удивился Жаботинский, – я могу назначить Вас на должность ревизора на автобусной линии.
Он помолчал, ожидая ответной реакции своего собеседника, затем несколько торопливо добавил:
– На первых порах. К сожалению, я не могу предложить начальственной должности.
– Вы знаете, Ицхак Абрамович, работа ревизором меня вполне устраивает. А командной должности я не ищу. В армии: на войне и на погранзаставах я на всю свою жизнь накомандовался.
– Вот и прекрасно. Я сам много лет работал на северах. (Он, видимо, по-привычке, сделал ударение на последнем слоге). Но когда понадобилось помочь наладить здесь нормальную жизнь, без лишних слов собрал всех своих домочадцев и переехал сюда, на западные границы страны.
– Ведь вы подумайте, – продолжал он, все более и более возбуждаясь, – сколько лет мы живем при Советской власти и то не научились как следует беречь общенародную собственность. А здесь? Новой власти всего-то десять лет. И что? Ведь попробуй им втолкуй, что давать взятки – плохо и что необилеченный проезд – это тоже взятка.
– А некоторые кондукторы этим пользуются. Трудный народ, – задумчиво сказал Ицхак Абрамович.
– Да, я Вас понимаю, – подхватил, как-то даже обрадовавшись, Вениамин Федорович, – у меня самого родственники такие
– Вот, видите, – укоризненно сказал Жаботинский, – и со всем этим нам с вами предстоит вести решительную борьбу. Да, именно борьбу! Не скрою, Вам предстоит работа сложная не только физически, ведь придется много ездить, но и морально. Я вам сейчас расскажу о некоторых ее особенностях
Но не прошло и десяти минут, как в кабинет нетерпеливо постучали.
– Да-да, войдите, – сказал Жаботинский.
Дверь отворилась настежь, потому что иначе в нее не мог войти этот богатырского телосложения парень. Он был высок, и, может быть, даже несколько полноват, но двигался так легко и свободно, словно весил не далеко за сто килограммов, а по крайней мере вдвое меньше.
– Ицхак Абрамович, можно до Вас? – спросил парень и широко улыбнулся.
– А, Иван, – приветливо ответил Жаботинский, – заходи.
– Вот, Вениамин Федорович, знакомьтесь. Иван Смуженица, наш активист и кандидат в члены партии, – представил вошедшего парторг и сказал уже напоследок:
– Если будут какие вопросы, заходите, не стесняясь, в любое время.
А через пару дней, погожим утром в самом начале лета, Вениамин Федорович стоял уже далеко от города на обочине шоссе, обрамленного яркой зеленью черешен. По случаю раннего утра сторожа видно не было, и Вениамин Федорович задумчиво отправил в рот несколько спеющих ягод со свесившихся совсем низко веток.
Хорошо она начиналась, эта новая жизнь. И разве можно было не радоваться, когда так ласково светило солнышко, и шелковисто блестели под его лучами, и переливались молодые овсы по обе стороны дороги. И погудывал в проводах теплый ветер, и ласково ворковали горлинки, сидевшие на их серебряных нитях. И звенел в небесной вышине жаворонок.
Однако не было в природе той решительности, которая через край переполняла Вениамина Федоровича и даже почему-то немного смущала его.
– Вот человек, – тепло думал он о Жаботинском, – верно сказал: нужно приучить их жить при Советской власти. О том, что к числу этих людей относятся и его родственники со стороны жены, и сама она, ласковая и милая Лариса – именно это обстоятельство смущало и беспокоило его больше всего.
Они переехали в небольшой городок на западе страны, говорящий на пяти языках, где вот уже несколько лет жили родители жены, которые, в свою очередь, перебрались сюда вслед за старшей дочерью. Здесь строили просторные частные дома на высоких фундаментах и огораживали их каменными заборами. Из промышленности в городке были только маломощные пивзавод, табачная и лыжная фабрики. Поэтому превыше всего ценились должности кондуктора и продавца газированной воды. А хвалить что-нибудь отечественное: одежду, там, или обувь, считалось дурным тоном.
Таков был этот город. По крайней мере, в то время, когда приехал сюда Вениамин Федорович; и та часть жителей, с которыми он был знаком до сих пор: дражайшие родственники и их немногочисленные приятели.
– Умеет человек жить! – с завистью говорили о том, кто имел свой дом, квартиру, мебель, непременно заграничную, и дорогие импортные вещи.
Все это было у зятя – мужа старшей сестры Ларисы, Николая. А у Вениамина Федоровича – «ни кола, ни двора», военная пенсия была маленькой, и он в высшей степени «не умел жить», вызывая к себе жалость и даже презрение.
И вот, чтобы быстрее обучить Вениамина Федоровича сердобольные родственники «устроили» на железную дорогу проводником в загранрейсы. На должность, которая являлась для многих предметом острой зависти. В свое время попасть на эти рейсы зятю стоило большого труда, а Вениамину Федоровичу с его анкетными данными – очень легко.
Напарник Вениамину Федоровичу попался на редкость жуликоватый. Он все норовил скрытно провезти через границу какие-то отрезы, кофточки и обувь, а Вениамин Федорович, не подозревая, что в этом-то и состояло «умение жить», чувствовал себя скверно, гадко и не раз ругался с напарником по этому поводу. В конце концов, не заработав ни денег, ни почета, он ушел с железной дороги и переключился на автомобильный транспорт.
К тому времени отношения Вениамина Федоровича с родственниками жены застыли на уровне откровенного недружелюбия. Они презирали его за простоватую честность, а он платил им тем же за ханжество. Бедная Лариса оказалась между двух огней. С одной стороны, обладая практическим складом ума, она не могла не видеть, что муж часто беспомощен в житейских делах, и была солидарна с родителями в этом отношении. А с другой стороны, каким-то высшим чувством она ощущала правоту мужа. Потому что не здравый смысл, а нечто более высокое в нас – совесть – отличает ложь, какой бы удобной она ни была, от правды и добра.
Новый, сверкающий стеклами и голубой эмалевой краской, непривычно большой автобус сытой рыбиной вывернулся из-за поворота. Вениамин Федорович скоренько выплюнул косточку черешни и, торопливо вытаскивая из планшета похожий на ракетку для настольного тенниса жезл, полез через заросший травой кювет. Водитель, молодой парень с полным добродушным лицом, видимо не ожидал увидеть здесь такого «пассажира», сделал испуганные глаза и затормозил.
– Не очень-то они здесь нас любят, – подумал Вениамин Федорович, но даже не удивился.
Он вошел в автобус через отрытую дверь и застал кондуктора, молодую женщину с таким же лицом, какое только что было у водителя. Делая вид, что ничего не заметил, Вениамин Федорович представился, попросил у кондуктора путевку, списал начальные номера и серии бобин всех билетов и начал обход пассажиров. Как он и предполагал, некоторые билеты были не из тех серий, которые значились в путевке, то есть неучтенными. Это был тот самый случай, о котором предупреждал накануне Жаботинский. Вениамин Федорович вежливо просил у ничего не подозревающих пассажиров их «левый» билетик, и таких неучтенных набралось не меньше десятка. Затем он предложил кондуктору сесть рядом с ним на свободные места в хвосте салона. Она, видимо, поняла, что ее ждет и сидела красная, готовая вот-вот расплакаться. Вениамин Федорович терпеть не мог женских слез и, чтобы немного разрядить обстановку, спросил, как ее зовут.
– Галина, Галина Смуженица, – был ответ.
– А Иван Смуженица ваш родственник?
– Он мой муж, – ответила женщина и все-таки разрыдалась.
– Значит, так, – сказал отец, который успел принять решение за это короткое время, – возьмите эти билеты и вместо них раздайте пассажирам другие, отмеченные в путевке. Я надеюсь, что больше по такому поводу нам с Вами разговаривать больше не придется. Вы меня хорошо поняли?
Еще не веря своему везению, Галина облегченно вздохнула и принялась обилечивать пассажиров, а Вениамин Федорович махнул водителю, что бы тот остановил автобус и вышел через задние двери.
Вечером, в конце рабочего дня Вениамин Федорович собрался уже идти домой, когда от группы шоферов отделился самый молодой видный парень, которого он встретил в кабинете Жаботинского.
– Вениамин Федорович, – сказал он, немного смущаясь, и постоянно переходя с русского на местное наречие, отчего у него вместо «Федорович» получалось «Хведорович», – мы тут з хлопцями надумали в генделык зайти на часок. Чи не составите нам компанию?
– Да, вроде, неловко как-то, и не знаком я ни с кем…
– Як же ни с кем? Мене знаете? А вси инши теж наши хлопци. Разом и познаймимось. Часа через два они сидели рядом в большой компании, сдвинув два стола, в шумном прокуренном помещении закусочной и разговаривали как давние приятели.
– Ну так, вот, Вениамин Федорович, ты русский, а я русин.
– Это как? – не понял его собеседник, который порядочно уже захмелел, – гуцул, что ли? А ты здорово пьешь, Иван. Сколько взяли, а у тебя ни в одном глазу.
– Так я ж вон який великий. Мени багато и треба. Так нет, Вениамин Федорович, есть русские, украинцы, а есть русины. Мы и есть русины. А ты добре зробыв, Вениамин Федорович, що не написав бумагу на мою Галку. Вона ничого жинка, хиба трошки жадная. Я, узнав, що ревизор на линии. Кажу – будь обережна. Так ни. Дякую, тоби, добрый чоловик.
– А как же ты узнал? – удивился Вениамин Федорович.
– Так я ж и кажу – свои хлопцы кругом. Ви на автобуси из городу ихалы?
– Ну и что?
– Так той же водий тим, хто ихав назустрич, и подавав знак. А що? У нас взаимовыручка.
– Зачем же ты Галину в жены взял, если она такая жадная?
– А що робити? Краще хоч один в симьи жадный буде, а коли обидва – зовсим бида.
Немного отлегло у Вениамина Федоровича от сердца, хотя чувствовал он, что по возвращению домой ему еще предстоит неприятный разговор с женой, которая очень не любила, когда муж приходил домой не вовремя, да еще сильно «навеселе».
Но все-таки была эта работа ему сильно не по душе. Хорошим быть с кондукторами совесть не позволит – воруют, а составить акт – жалко, люди ведь тоже.
– Нужно будет устроиться на курсы и получить специальность водителя, – твердо решил он.
Так, или почти так происходили те события, о которых я поначалу даже и не догадывался по причине своих малых лет. А вот другие сведения вполне достоверны. Я много раз слышал пересуды родителей о Смуженице, не представляя толком, какую роль он сыграл в жизни отца. Что же касается Жаботинского, то о нем, вообще, никогда не было связных разговоров. Одни отрывочные воспоминания отца. Видимо, потому, что в скором времени вопрос об Израиле перерос в дело сугубо политическое.
Между тем, первым ушел Смуженица.
Этот здоровяк и красавец просто не придавал значения тому, что у него в течение какого-то времени болел низ живота справа. Когда боль стала почти невыносимой, пришлось обратиться к врачу. Его срочно положили в больницу. На операционном столе выяснилось, что у него развился инфекционный перитонит, как осложнение аппендицита. Когда его решились оперировать, болезнь была на последней стадии. Из больницы Смуженица уже не вышел. Эта неожиданная смерть поразила всех, кто его знал. Особенно переживал отец. Ведь одно дело – терять друзей на фронте, а другое дело в мирной жизни, да еще так нелепо.
Вслед за ним ушел и Жаботинский.
Правда, об этом в автопарке Мукачево узнали только спустя довольно продолжительное время. Это было связано с тем, что Жаботинский вместе со своими многочисленными домочадцами отбыли в недавно созданное государство Израиль. Так сказать, вернулись на свою историческую родину. Свое восхождение, или «алию», они совершили не в массовом, а в индивидуальном порядке. Судя по всему, непоколебимый борец с пережитками прошлого, планировал продолжать свою деятельность и на родине своих предков. Однако и там у него что-то не срослось, и вместо уютного кабинета Жаботинский отправился работать в шахту. Скорее всего, не по собственной воле. А это, учитывая его слабые легкие, оказалось равносильно смертному приговору. Что, собственно говоря вскоре и произошло.
Вениамин Федорович, мой отец.
Он так и не смог смириться с жизнью в Закарпатье и постоянно рвался на восток. Наконец, ему удалось уговорить маму, и мы переехали в маленький городок на Днепре, где он прожил вторую половину своей долгой жизни. Здесь отец пережил и распад СССР, и становление «самостийной», но, слава богу, он, все-таки, уже не застал Майдан и торжество «бандеровского» государства.
Жизнь показала, что тысячу раз прав был отец, когда так стремился уехать из Закарпатья. Только переехали мы, оказывается, все-таки не так далеко на восток, как, возможно, следовало.
Сейчас я оказался отрезанным от своих родственников не только рамками границы, которая становится все менее проходимой, но, что еще прискорбнее, тем рубежом, который стал проходить в головах оставшихся в Украине людей под влиянием многолетнего вдалбливания антироссийской пропаганды.
Отец несколько раз уезжал на стройки, в основном на Днепре, которые разворачивались в те годы. Так, до поездки на Кременчугскую ГЭС он был на строительстве Каховки, но все его попытки до поры наталкивались на сопротивление мамы.
Довольно часто в те годы, особенно после получки, отец приходил домой сильно выпившим. Мама не любила это его состояние, поэтому отец без лишних разговоров норовил побыстрее отправиться спать.
Нечего и говорить, что я с детства привык гордиться своим отцом. В одном из первых стихотворений, которое я придумал в то время, когда еще не знал, что существует такое понятие, как рифма, были такие строчки:
Он был начальником заставы,
И командиром роты был.
Он от Москвы с боями,
Шел прямо на Берлин.
Если не считать некоторых неточностей, смысл его отражал действительность достаточно верно.
Одно время отец работал на грузовом такси. Это был грузовик с кузовом, обтянутым брезентом, который заезжал в самые дальние, расположенные в горах села, куда не добирался ни один автобус. Зимой в Карпатах это было небезопасное занятие. Это внизу, на равнине, снега выпадало мало, и он, пролежав всего несколько дней, как правило, успешно таял. А в горах, особенно на перевале, он лежал гораздо дольше, и морозы там случались серьезные. Иногда отцу приходилось по несколько часов мерзнуть в неисправной машине в такой глуши, где надеяться встретить проезжающую машину было совершенно бесполезно.
Я помню, как мы сидели с мамой на кухне в ожидании отца и слушали, как завывал холодный ветер в печной трубе. Мне казалось, что на много километров вокруг нас нет никого из людей. Только ветер и снег, да где-то в горах едет на своей «ласточке» отец, с трудом пробираясь домой через наметенные сугробы.
Под впечатлением ощущения хрупкости нашего бытия я впоследствии написал стихотворение «Хуторок».
Ночью в степи тишина и безлюдье,
Робкий горит огонёк.
Стёкла в окне разрисованы вьюгой.
Тихо стоит хуторок.
– Мама, а скоро наш папа приедет,
Долго нам ждать ещё?
– Скоро, уж скоро, милые дети,
Месяц давно прошёл.
Тане подарит он новую книжку,
К лету – цветной сарафан.
Ване сапожки, коньки и штанишки.
Папа всё знает сам.
Ночью в степи тишина и безлюдье,
Робкий горит огонёк.
Стёкла в окне разрисованы вьюгой.
Тихо стоит хуторок.
– Папа приехал, ведь я говорила!
Слышишь полозьев скрип?
Люди чужие дверь отворили,
Гроб с телом отца внесли.
Ночью в степи тишина и безлюдье,
Робкий горит огонёк.
Стёкла в окне разрисованы вьюгой.
Тихо стоит хуторок.
Но все эти проблемы отступали, когда отец оказывался на природе. Только здесь он чувствовал себя по-настоящему свободным. Как правило, на все вылазки он брал меня с собой.
В первые годы приоритет отдавался охоте. Мы ходили с ним поздней осенью и зимой за зайцами. Сначала довольно результативно. Отец метко стрелял из своей неразлучной «ижевки» шестнадцатого калибра, и мы редко приходили без трофеев.
Постепенно мы с отцом все больше начали переходить на рыбалку. Дичи в окрестностях Мукачево становилось все меньше, а, кроме того, надо было чем-то заполнять досуг с весны до осени. Я готов был вставать в какую угодно рань, чтобы мчать почти в полной темноте на подростковом «Орленке» рядом с отцом, ехавшим на взрослом велосипеде, стремясь не опоздать на утреннюю зорьку. Отец научил меня пользоваться «внутренними» часами: загадывать желание, во сколько часов нужно проснуться, и мы никогда не просыпали, хотя и не заводили будильник.
Сколько себя помню, отец, когда мы были на природе и позволяли обстоятельства, рассказывал случаи из своей жизни. Это были немудреные истории, действительно из его жизни, которые никогда не заключали в себе морали в чистом виде. Отец вообще никогда не пытался меня «воспитывать», ни в раннем детстве, ни тем более, когда я был постарше. И еще, он никогда не рассказывал о войне или о своей службе на границе. Но зато я много раз слышал историю о том, как его старшина пытался отыскать, с чем же можно есть трофейную мазь с приятным запахом, которая оказалась солидолом. Он не рассказывал подробно, как мерз в окопах на Калининском фронте, но с удовольствием вспоминал как однажды там же в Калининской, ныне Тверской, области на утлом плотике наловил целый котелок раков.
И, что удивительно, многие из этих историй я запомнил и пересказывал, добавляя к ним свои случаи из жизни, своему, нет, не сыну, потому, что у меня оказалось слишком мало времени на общение с маленьким сыном, когда ему действительно был необходим отец, а старшему внуку.
Теперь он уже подрос, и хоть и просит иногда рассказать «истории из жизни», я понимаю, что для него это уже не так интересно, после всех виденных им американских фэнтези в 3D. Но у меня подрастает еще один внук и две внучки, и я надеюсь, что жизнь еще отпустит мне время для общения с ними в непринужденной обстановке.