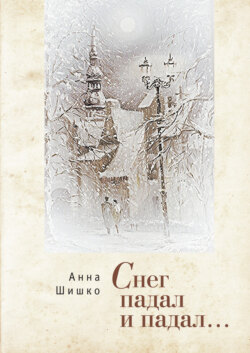Читать книгу Снег падал и падал… - - Страница 5
Белые и красные
ОглавлениеПамяти Т.М. Якушенко-Анненковой и Н.А. Анненкова
Зачем и кому было нужно это бликующее, со стертыми в краях овала следами былой памяти, это реликтовое зерцало? Оно было реликвией и висело здесь почти сто лет.
В него смотрелись предки первого мужа. Они все были во фраках, длинных шуршащих платьях, шляпах со страусовыми перьями, но зеркальный овал отражал лишь верхнюю часть тела, а длина юбок и фалды фраков оставались за границей этих давних отражений.
Саня – так называли ее мама и бабушка Дуня, Александра Викторовна, – почтительно кланяясь, величали ученики. Она подошла к роялю, нажала на ноту до, присела на шаткий стульчик и заиграла. До боли знакомые звуки – то был Рахманинов, его первый концерт. Но вдруг вместе с музыкой нахлынули тяжелые воспоминания, и счастье от величия проникающих в каждую клеточку звуков, таящих в себе такую страстную, такую сумасшедшую любовь композитора к жизни, сменилось болью. Эта боль становилась все острее и сильнее, но была не физической, а скрежещущей, щемящей болью души.
Александра заставила себя доиграть первую часть концерта, закрыла крышку, подошла к зеркалу и увидела себя не старой, а совсем молодой.
Всего один день, словно кадр за кадром, промелькнул в ее сознании. Это было ранней весной. В станице Веселой, где она родилась, происходили невероятные, страшные события.
Ее дед Емельян – увидела его, словно это происходило сейчас – стоял у плетня, подтягивая ремень, надетый поверх рубашки, и смотрел на огромное вспаханное поле около калитки: набирали сиреневый цвет тоненькие стебельки кермека, а между ними уже желтели одуванчики.
Сашенька взяла картонку, положила на нее лист бумаги, села на шатающуюся табуретку под навес над крыльцом, чтобы солнце не очень припекало голову. Карандаши в коробочке лежали на земле. Девушка достала мягкий черный карандаш, нарисовала колышки плетня, стала «насаживать» на верхушки крынки да горшки, которые бабушка Дуня развесила посушиться. Потом Саша попробовала нарисовать фигуру деда: немного сутуловатый, огромные штаны заправлены в сапоги, рубашка-косоворотка расчерчена тонкими черными полосками, подпоясана широким ремнем со звездой. Саша решила нарисовать и дорогу, что тянулась вдоль поля, и кадку с водой… Подошла баба Дуня:
– Знаешь, Санечка, вон как здорово кадку-то нарисовала, а она ведь непростая. Я году в девятнадцатом аль в двадцатом в ней шашки да сабли отмывала. Одним днем белые на лошадях скачут, завидят меня, остановятся и торопят: «Помой, девка, шашки!» Я беру их, а там кровь запеклась. Помою, отдам, а они вот по этой дороге дальше скачут. А на следующий день красные едут. Опять уж их шашки окунаю в бочку, и на их сверкающей стали кровь алая.
Саша перестала рисовать:
– Баб, а почему кровь-то?
– Так рубили они друг друга, девонька. Ты уж, наверное, слышала об этом.
– А ты-то за кого была?
– Я тогда и понять не могла, что творится. То землю пахали и семена в нее бросали, а в те-то годы ямы в земле копали да людей порубленных десятками туда сбрасывали. Где белые, где красные? Я, конечно, потом за красных была. Ведь семья-то моя бедная. Вот и дед твой за справедливость боролся.
Дед Емеля тем временем направился к конюшне.
Саша замерла, вспоминая уроки истории в школе, то, как им о революции Анна Марковна рассказывала; она-то знала, что революция была необходима, чтобы установить равенство на земле, бедных и богатых уравнять. Саша вождя Ленина чтила, его портрет висел напротив печки на стене. Часто дед садился под портретом на лавку, закуривал махорку, брал старые газеты «Красный Дон», а Дуня приговаривала:
– Лучше б, Мелька, валенки залатал, что ты все одно и то ж читаешь.
– Эх, мать, времена-то были! А теперь вот тут сижу, прозябаю, пахота, посевная да жатва. А я боев хочу.
– Да ты что, старый… Война-то, кому она нужна?
Саня слушала эти зимние разговоры изо дня в день, вот и сегодня о них вспомнила. Она достала из коробки красный карандаш и нарисовала около бочки лужу с красными разводами. Нарисовала и испугалась: «К чему это здесь кровь-то?»…
Вдруг на дороге показалась большая машина с зеленым брезентовым верхом, таких в Веселой она не видела. Машина затормозила у их дома, крайнего в селе. Из машины вышел человек в черной кожаной куртке:
– Емельян Ковчук где живет?
– Это мой дедушка, – испуганно прошептала Саня.
Из сарая выбежала Дуня.
– Что случилось, с Васечкой что-то?
– Где ваш Емельян?
– В сарае, – растерянно прошептала бабушка.
Тут же из машины вышли два красноармейца. Все трое вошли в сарай, а через минуту вывели деда и повели к машине. Саша подбежала к бабушке, прижалась к ней.
– Бабуля, куда они его? – и вдруг она увидела лицо Емельяна: большие уши покраснели, глаза сверкали.
– Дуня, дай тужурку и махорку.
Только потом они поняли, что деда обвинили в революционной измене, что якобы нашли документы, в которых были сведения, что люди из Веселой – пять человек и их дед – служили и у белых, и у красных.
Александра Викторовна отошла от зеркала, присела на краешек дивана и закурила свой любимый «Беломорканал». Улыбаясь, приоткрыла рот и устремила свой взгляд на лежавшую в уголке дивана кофту. Четыре десятилетия она берегла ее, летом вывешивая на балкон проветриться от моли, зимой укладывая в полотняный мешочек, и лишь изредка вынимала из шкафчика:
Вот и сейчас она бережно набросила реликвию на плечи и подошла к зерцалу. И за его очертаниями в величавой пелене времени поплыли, кружась в лабиринтах памяти, дивные видения, неожиданно настигшие ее после бесконечной череды страданий, дней счастья, восторгов и радости.
Дома с бабушкой они ждали известий от деда, ездили вместе в Ростов-на-Дону, обивали пороги учреждений со сложными названиями ГУПК и наркоматы, но двери для них были наглухо закрыты. Как-то, проснувшись ночью, Саня услышала всхлипывания, встала, открыла дверь в маленькую смежную комнату. Баба Дуня сидела на сундучке у печки, держа в руках листок серой бумаги, и плакала. Слезинки капали на серый толстый листок, а она не замечала, как круглые буквы начинали расплываться, превращаясь в волшебные узоры с непонятными очертаниями. Саня подошла, обняла бабушку, та вздрогнула:
– Ты что не спишь, Санечка?
– Ба, это от деда, он нашелся?
– Теперь уже нет… – и она заплакала навзрыд, привлекла внучку к себе, обняв полными руками. – Погиб он в тюрьме, Санечка. Вот видишь конвертики, – она взяла с сундука три серых конверта с треугольными марками, – это его письмо, не мог он нам переслать их на волю, но хранил бережно, носил на груди под тюремной робой.
– Ба, но ведь он не был ни в чем виноват.
– Конечно нет, это время виновато было. Вот почитай, – она протянула Сане три толстых листка, видимо, из-под каких-то оберток:
10 июля 1937 годи.
«Дунечка моя, не могу удержаться, ничего не хочу. Так сложно, страшно здесь, теперь уже не пытают, не допрашивают, а лишь мучают мысли, почему все так, почему не жить было мирно, хлеб сеять… за что биться? Господи! Не веровал я в Тебя. А теперь молю: «Боже праведный, верни мне их!» Ну хоть на денек тебя да Саньку увидеть. Жалею я вас, сердцем мучаюсь, как жалею… И молюсь, я, неверующий… А верю и молюсь».
2 октября 1937 года.
«Бчера повели всех нас разбирать старые деревянные дома. Покрепче завязал рубашку, чтоб письма не разлетелись, ношу их на сердце. А одно бревно вдруг выскользнуло из рук, придавило меня. Ребята подскочили, бревно скатили с груди, шнурок развязали, а ветер… Бот письма и разлетелись. Я было думал вскочить и собрать их, а не смог… Так мой сосед по нарам, Иван, поднял их и обещал вам переслать. Пишу из местной больницы, где нас трое тюремных лежит в палате. Но кажется, все обошлось. Завтра выпишут. Ох, как плохо мне без вас, мои милые…»
11 ноября 1937 года. «Вот я уже и на тюремной воле. Какая страшная штука тюрьма, и те, которые надзирают за нами. Иван письма мне отдал. Я их спрятал теперь под матрац… Ну, а если помру – после ушиба сердце болит – приказал Ване их вам переправить. Дуняша моя, люблю тебя, хоть слов тебе таких и не говорил. А увидел тогда… И жалею. Господь, Ты перепутал все, Ты взял бы меня, а не дочь. Екатерину нашу мы с тобой потеряли, а внучку Саньку спасли, хоть бы ей довелось жить в радости. За что их тогда убивать пришли?
Есть у меня мечта заветная, о Господи, боюсь, но скажу. Жить с единым человеческим лицом трудно. Где ложь, где правда, не разберешь. Лишь театр-лицедей не карает и не льстит, а разыгрывает жизнь нашу. Может, Санечка, в актрисы…»
На этом письмо обрывалось. Бабушка протянула Сане еще один маленький листочек.
«Доброго здравия вам, сильные казачки Емельяновы.
Горе разделяю с вами. Емельяна уж больше нет. Пришли ночью, когда он письма вам писал, выхватили у него листок и нашли в нем страшную крамолу, якобы оскорбляет он тюремные власти. Увезли его, а потом где-то у деревни расстреляли. Могилы нет. А меня решили из-за отсутствия улик освободить. Вот я вынул в ту ночь три письма из матраца. А третий листок без конверта остался. Пересылаю вам все три. Много он мне про свою бывшую жизнь не говорил, а про вас каждый вечер рассказывал: и что Санька его рисует, и какие у вас, Авдотья, глаза синие и нрав добрый. А еще что-то все про театр говорил, как в бреду».
* * *
Александра Викторовна надела шляпу с широкими полями, пальто-крылатку и вышла на лестничную площадку. Навстречу с третьего этажа спускалась уже немолодая, но статная актриса, служившая в одном из московских театров. Они сдержанно поздоровались. В этом приветствии было некоторое отчуждение, и возникло оно из-за постоянных соседских столкновений. Сын актрисы сильно пил, и ночью над головами Александры Викторовны и ее мужа, Народного артиста Федора Фелициановича, гремело, грохотало, скрежетало, разбивалось, ударялось всё, что могло рушиться и уничтожаться. Сон улетал, уходил. Александра набирала номер телефона и жестким голосом пыталась образумить юношу. Тот умолкал, но через неделю все начиналось снова.
Вот и сейчас, после бессонной ночи, она направлялась к памятнику Юрию Долгорукому. Вышла, остановилась на ступеньках и подумала: «Наступила пора старости. Увы, как у Сергея Есенина:
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют….
Пересекла улицу, вошла во дворик, пройдя через арку, оказалась на залитой солнцем площади у памятника. Здесь уже более десяти лет они с Федором Фелициановичем прогуливались в дни, когда у него не было спектаклей. Сегодня его вызвали в театр, и Александра Викторовна решила до возвращения мужа посетить свой самый родной дом в Москве, что в Леонтьевском переулке. Это был дом Константина Сергеевича Станиславского и Марии Петровны Лилиной.
«Театр – лицедейство», – так говорил дед Емельян. И она, как бы по завету деда, поступила в театральную студию. Давно в станице Веселой создали народный театр, тогда она сыграла в чеховской «Чайке» Нину Заречную. Может быть, горькая, трагическая судьба актрисы и стала продолжением ее сложной жизни.
Пятьдесят лет назад Александра не знала, как распорядится ее жизнью время, какие шашки придется оттачивать, какую кровь смывать со своего израненного сердца.
Начал накрапывать дождь. Оказавшись около желтого особнячка в Леонтьевском переулке, Александра встала под навес над крылечком, позвонила. Вышел Степан Степанович, племянник Константина Сергеевича, маленький, седовласый.
– Сашенька, здравствуйте! Как я рад, рад!.. Проходите, пожалуйста. Какими судьбами?
– Да вот сегодня ровно пятьдесят лет с того дня как я пришла сюда. Хочу подняться по родным ступенькам; можно ли в комнату Марии Петровны заглянуть?
– Конечно! А я словно знал, что вы придете. Нашел фотографию – вы там рядом со Станиславским сидите. И так восторженно на него смотрите. Пока по музею походите, а я фотографию принесу.
Александра Викторовна поднялась на второй этаж, зашла в комнату Марии Петровны. Скромная кровать великой актрисы с белым покрывалом, на тумбочке – сумочка, перчатки, лорнет. И словно из глубины пространства услышала ее голос: «Сашенька, вы моя самая любимая ученица. Вот уже и диплом получили. И решительны вы всегда и во всем. На фронт к раненым с фронтовыми бригадами едете. А я вот вам кофту Константина Сергеевича приготовила. Будете надевать ее, и словно руки его согреют вас, и убережет она от пуль, от смерти».
Как же любила она их, великих театральных учителей. Прибегала первой на занятия, садилась рядом с учителем и, открыв рот, внимала каждому слову Константина Сергеевича. Психофизический анализ – сначала это были трудные понятия, потом расшифровка системы, а позже – суть ее жизни.
Александра Викторовна перешла в комнату Константина Сергеевича. Книги, книги, портрет – добрые лучистые глаза. Здесь прошли последние дни его жизни.
Она была рядом с Марией Петровной, когда огромное горе пришло в этот дом. Старалась поддержать одинокую актрису, заходила к ней почти каждый день, они подолгу говорили о ролях.
Поступила в театр Станиславского, где играла Эмилию, а потом стала преподавать в Щепкинском училище. Вышла замуж в двадцать пять лет. Муж – прекрасный певец, добрейший, любящий человек, очень долго и тяжело болел, ухаживала за ним. В тяжелые беспросветные дни его ухода лишь сын Арсюша радовал ее.
От воспоминаний отвлек голос Степана Степановича:
– А вот и фотография, Александра!
– Спасибо, Степан Степанович! То были дни моей счастливой молодости, дни вдохновения и надежд.
Она открыла небольшую черную сумочку, что подарила ей Мария Петровна и бережно убрала туда столь дорогой снимок.
Вечером Александра Викторовна сидела у старого рояля и наигрывала вальсы и этюды Шопена. Один из этюдов забылся, достала из старенькой тумбочки ноты и задумалась. Вот любили ее великие учителя, считали талантливой. А она, придя в театр, талант не смогла проявить, всё норов свой показывала. Была уверена, что сама должна решать, какой характер у героини пьесы Эмилии – нежный, трепетный. А режиссер считал, что – упрямый, немного властный. Не хотела она подчиняться чужому мнению. Всё сама, сама. Советовалась с Тусей, подругой, которая во втором составе Эмилию играла. Доверяла ей свои мысли: «Режиссер неумен, настырен, неначитан». Туся, сидя у нее дома, попивая чаек и поедая ее пирожки с капустой, поддакивала. А ведь потом оказалось, что она предала Саню, все режиссеру докладывала. А тот после успешной премьеры, где Эмилия была такой, какой ей виделось, собрал труппу и сказал, что не потерпит в театре самоуправства, что актер должен слушать режиссера, а коли нет, так пусть уходит. Такой категоричности Саня не перенесла, взяла в гримерке вещи: бабушкин костяной гребень, цветастый платок кубанский, сняла со стенки портрет деда Емельяна, сложила в холщовую сумку и ушла. Понять не могла, как же так сразу выгнали! А потом узнала, что Туся ее предала, все режиссеру Виктору Ивановичу рассказала: какой он «неначитанный, настырный». Вот и не стал он ее упрашивать остаться в театре. А Туся в первый состав попала.
Сейчас преподает Александра в театральном училище режиссуру. Знает она всю классику, рассказывает ребятам об образах, разбирают они характеры персонажей пьес, спорят до крика, спорят до изнеможения, чувствует она, что на пользу им ее уроки, семинары. Но непримирима она, когда приходит время экзаменов. Спрашивает строго, поблажек не дает. Как-то задержал ее в коридоре чудный ученик, Ванечка Жолобов, попросил:
– Александра Викторовна, поставьте зачет, а я потом досдам?
– Это почему?
– Да у меня мама в Ставрополе заболела. Срочно надо ехать.
– Нет, сначала сдай, а потом поедешь.
Через день она у него зачет приняла. А к маме Ванечка не успел, умерла мама в тот зачетный день. Вот ведь какая принципиальность…
Раздался звонок. Александра посмотрела на часы – была почти полночь. Открыла тяжелую железную дверь, пропустила Федора Фелициановича, взяла у него палку с набалдашником в виде головы льва, шапку-«пирожок», помогла снять драповое пальто. Был Федя на целых двадцать лет старше, жалела она его, конечно, всем сердцем.
– Федюшка, ужинать будешь?
– Нет, чайку бы попить, Санечка.
Уселись за круглым столом на кухне. Диван с красным покрывалом, огромный красный абажур. Свет от лампы всегда в вечерние часы лился на стол, и был он каким-то розоватым, уютным, струящимся, располагающим к долгим беседам и чинному застолью. Чашки с блеклыми незабудками, серебряные ложечки с витыми ручками и старинная сахарница со щипчиками – все из наследства, оставшегося от знаменитой Марии Савиной, тетушки первого мужа Александры Викторовны. Скульптурный бюст её уже более восьмидесяти лет стоял на комоде, и когда они ужинали или обедали, был виден через открытые двери кухни. И словно сама великая актриса принимала участие в их беседах.
Александра Викторовна заварила чай с мятой, как любил муж, поставила на стол испеченые утром плюшки. Федор Фелицианович разлил чай, присел к столу.
– Ты что, Федюшка, такой грустный?
– Да знаешь… Вот пять часов, представь, пять часов обсуждали, кому быть в первом составе – мне или Михаилу. А ты же знаешь, как дорожу я ролью Маттиаса, как рвется именно со мной, а не с ним играть в очередной раз Зиночка!
– Господи, Федя, ты пойми, не могу я слышать об этих составах, и первых, и вторых.
– Прости, но без этого нет театра.
– Федя, но тогда в Ленинграде билеты нельзя было достать на пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца». Аншлаги! И ты – Маттиас, и Инкен. Такие чувства на сцене! Противостояние детям, мешающим любить. А ведь любить можно всегда, главное – любить. Такая силища, Федя, была в вас двоих, такие эмоции. Плакали в зале и женщины, и мужчины. Боже милостивый, лучше тебя никто не понимает этой трагической фигуры! А теперь тебя хотят вывести из спектакля.
Саня вскочила, заметалась по кухне, вбежала в комнату, встала перед белоснежным бюстом Савиной.
– Ну что, Мария Васильевна! В ваши времена такое бывало?
Она в гневе не заметила, как Федя оказался рядом, обнял ее, и опустил ей на плечо свою седую голову.
– «Священнодействуй или уходи!» Эх, Щепкин, Щепкин. Вот и не могу уйти. Во мне словно машина какая – перпетуум мобиле, вот я своему партнеру Виктору все время говорю: «Держи меня, и я до ста лет доживу, и буду все время отдавать тебе свою энергию, а ты держи меня. А они – эти партсоветы, худсоветы – разрушают нас. Обсуждают и разрушают».
Потом они сидели еще часа полтора на кухне: постукивали серебряные ложечки о чашечки тончайшего фарфора, струился свет, падая на мудрое красивое лицо Федора и властное, но удивительно женственное лицо казачки Сани.
А ночью она не могла уснуть. Села к роялю, убрав ноты Шопена, заиграла «Осеннюю песню» Чайковского, потом опустила руки на клавиши. Взяла папироску, повернулась к зеркалу, чиркнула спичкой. Тонкая струйка дыма, как змейка, охватила изящную фигурку «Хозяйки Медной горы», стоявшую на столе перед зерцалом. И вдруг заметила Федю, в стоптанных шлепанцах, в длинном махровом зеленом халате. Он показался ей таким стареньким, таким потерянным.
– Опять куришь?
Загасила папироску, подошла к нему:
– Пошли спать…
Поддерживая друг друга, они пересекли гостиную и оказались в спальне. Небольшая тахта, над тахтой – копия картины Крамского «Христос в пустыне». Федя, тяжело дыша, лег, Александра подоткнула клетчатый зеленый плед ему под ноги и спину.
Сама она спала на диване в зале. Со стен смотрели лики прекрасных женщин: Зинаиды Волконской, Анны Ахматовой, Полины Виардо – тех, кого любила и очень ценила за их таланты, – это были лишь литографии.
Александра Викторовна закрыла глаза. Сон не шел, не падал на тело, мозг не убаюкивал душу. Каждый раз она думала об этих проклятых шашках, о белых и красных, о каплях крови, о ранах на душе. Ну почему человек не может быть един в своих взглядах, мнениях, убеждениях, почему принципиальность уходит, почему как в качку морскую, мир охватывает паническое состояние, непонимание, почему и для чего этот мир существует, для чего живет человек, и что есть для него Вселенная. Она похоронила своего первого мужа Петю, тоска жгла и побеждала, хотелось распроститься со всем. Умерла баба Дуня, Арсения воспитывала сама, а тут вдруг из станицы Веселой приехала дальняя родственница Верочка; поселила ее у себя. Прошло полгода после смерти Пети, Верочка попросила: «Санечка! Вы не мучайтесь так, не плачьте, ну поезжайте отдохнуть. Может, в горы?» Александре в училище предложили путевку в Железноводск. Оставляла она Арсения с Верой неохотно, но видела, что та добра и к сыну, и к ней бесконечно. Вот и уехала.
Снег в горах, солнце и воздух, и орлы в полетах были под-стать ей, ее воле, ее казачьей вольности. Ушла боль из души. Как-то у источника встретила очень красивого человека. Он предложил ей стакан с прозрачной целебной водой, выпила до дна, и вдруг все закружилось в ее жизни, как прежде. Внимание, подъемы в горы и спуски к источникам, вечера в маленьком ресторанчике! Он читал ей Державина, Пушкина, Лермонтова, а она ему – «Накануне» Тургенева, Тютчева. Помнит, как неожиданно после ее слов: «Ни в чьих глазах не нахожу приют…», сказал: «А в моих найдете?» И Александра приехала с ним в Москву. Он был уже немолод, одинок и знаменит. Квартиру оставил дочери и маленькой внучке. Поселила его у себя, а Верочка стала спать на кухне. Потом Арсению, который не смог жить с эгоистичным отчимом, абсолютно не замечающим юношу, купили неподалеку квартиру. И она, Сашенька, бегала через три переулка с Тверской на Вспольный. Белые и красные… И не могла выбрать, не могла примирить, не могла соединить. Господи, кровь была на сердце и на душе.
Арсюша поступил в институт, и начались компании – и пили, и пели, и гуляли. Шли годы. Один старился, другой взрослел, а она, принципиальная, не могла выбрать, а, пожалуй, выбрала – сигарету и гениального мужа. А Верочка ухаживала за Арсением, кормила, стирала.
Арсюша умер: упал на улице, сердце не выдержало. Не от разлуки ли с ней? Но спасти его она не смогла.