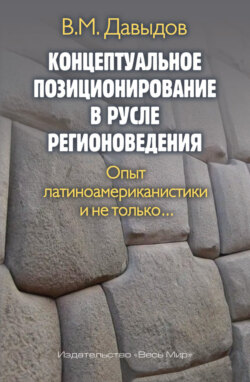Читать книгу Концептуальное позиционирование в русле регионоведения. Опыт латиноамериканистики и не только - - Страница 5
Глава 3
ВРЕМЯ ВОДИТ НАШИМИ ПЕРЬЯМИ
ОглавлениеМноголетняя причастность к делам латиноамериканистики и знание ее «изнутри» позволяют автору более обстоятельно остановиться на результатах концептуальной работы на этой ниве. Причем по возможности совершить это в жанре диалога с представителями других регионоведческих школ и отечественной глобалистики, с одной стороны. А с другой – апеллируя к представлениям зарубежных коллег, которые шли параллельным курсом, находя отклик в нашем обществоведении. Не думаю, что удастся таким образом соблюсти все названные ориентиры. Но пусть это будет сделано хотя бы частично. Иначе говоря, обращение к латиноамериканистике будет реализовано здесь как своего рода «кейс стади» (уже анонсированный). То есть как пример формирования одной из регионоведческих школ, осуществлявшегося с учетом родственного опыта в стране и за рубежом.
Коль скоро латиноамериканистика рассматривается в обозначенном ключе, хотелось бы прежде всего обратиться к содержательной стороне дела. Это реально в том случае, если по мере сил будет восстанавливаться баланс между концептуальным науковедением и статистической наукометрией, баланс, явно нарушенный в последние годы в пользу второго. А это также означает, что придется отдать должное той печати исторического времени, которая так или иначе модифицирует наши научные и мировоззренческие представления. Порой они (будем откровенны) непроизвольно мимикрируют под историческое время. Имеются в виду его метаморфозы в отечественной практике, в событиях на пространстве изучаемого региона и, разумеется, императивы, задаваемые глобальным контекстом.
ЛКА с достаточными на то основаниями традиционно рассматривалась в общих границах развивающегося мира, в огромном массиве развивающихся стран25. Но это множество на сегодня потеряло былую, пусть относительную определенность. В обыденном понимании речь идет о странах, отстающих в своем экономическом развитии, но теперь с бóльшим либо меньшим успехом встающих на догоняющую траекторию. Сохраняются и те, что остаются в плену устойчивого отставания и социально-экономической архаики. В свое время эксперты ООН и ряда других общемировых организаций, выстраивающие страновое типологическое ранжирование, оказались в замешательстве после исчезновения «второго мира» во плоти советского лагеря. Тогда смысл категории «третий мир» отпал сам собой. А в мировых реестрах и рейтингах появились категории «транзитных» государств и «нарождающихся рынков». Между тем неизменно продолжало хорошо работать деление геоцивилизационного порядка. И косвенно это подкрепляло репрезентативность регионоведческих школ, с одной стороны, а с другой – фундаментальность цивилизационного подхода.
Дискуссия в жанре переоценки ценностей развернулась еще на исходе «перестройки» второй половины 80-х. Тогда коллеги из ИМЭМО (Р.М. Аваков и М.А. Чешков), предчувствуя распад былой концептуальной основы, действовавшей при совокупном исследовании проблематики развивающихся стран, подняли вопрос о теоретическом самоопределении «третьемироведения». По моим представлениям, на финале советского времени аргументация в пользу такой позиции оказалась недостаточной, о чем было сказано в статье 1989 года26.
В центре дискуссии оказались тогда четыре полемических узла. Во-первых, место и роль нашего регионоведческого сегмента в широком контексте общественных наук. Во-вторых, то, что обещало нашим интерпретациям обращение к качествам взаимозависимого мира (к эффекту глобализации). В-третьих, возможности и пределы адаптации капитализма к новым условиям существования в его периферийной зоне. Четвертое – выводы, которые последовали по результатам ревизии того, что принесла практика социалистического выбора и социалистической ориентации развития в периферийной зоне мирового хозяйства. Тогда в научной трактовке преимущественно сказывались предчувствия. А на сегодня мы имеем свершившийся факт распада «второго мира». Отнюдь не до конца, но, определенно, в его советском сегменте. С неизбежностью пострадала логика выделения «третьего мира». Сузилась и зона государств, неопределившихся в своем историческом выборе. Рынок все более масштабно «поедал» их остатки. Переходная многоукладность эволюционировала в сторону повышения веса того уклада, который ассоциируется с развитым капитализмом.
Легко понять мотивацию тех наших коллег, которые в нынешних условиях вернулись к вопросу построения концептуальной основы, на которую могут опираться исследования разнородной совокупности развивающихся стран. Среди них представители африканистики, члены-корреспонденты РАН И.О. Абрамова и Л.Л. Фитуни. В своей интерпретации они отталкиваются от эрозии прежнего мироустройства, сопровождаемой нарастанием веса развивающихся государств как в мировой политике, так и в мировой экономике. С другой стороны, аргументация ведется с учетом соперничества сильных мира сего в доступе к ресурсному обеспечению, осуществляемому за счет резервов, которыми располагают развивающиеся страны27. Это, однако, не снимает с обществоведческой повестки вопрос сущностной диверсификации обширного массива государств, по инерции называющихся развивающимися. Разброс по качественным характеристикам обществ и экономик становится все более рельефным и явственным.
Мотивация «переоценки ценностей», продиктованная осознанием реальности происходящего ныне разрушения прежнего мироустройства, близка сегодня широкому кругу отечественных и зарубежных ученых. Примером служит последний (январь 2023 г.) доклад Давосского форума о глобальных рисках. Доклад исходит из концепции «поликризиса» – множественного, многовекторного поражения существующего миропорядка, что порождает императив переформатирования мировой системы28. Как представляется, будь то в мировом сообществе в целом либо в сегменте развивающихся стран, типологическая принадлежность государств, их место в глобальной иерархии будут зависеть от способности выходить из зоны риска по мере преодоления «поликризиса» и издержек этого процесса.
Обращаясь к ЛКА, логично начинать с ее места в мировой системе координат. В совокупности регион легко, почти арифметически, попадает в среднюю страту мирового сообщества, имея примерно равную квоту в мировом продукте (по ППС) и мировом населении. Но прав профессор В.Б. Кувалдин, называющий ЛКА «незолотой серединой»29. Если она и середина, то скорее в ее нижнем срезе. Другое дело – неизбежная обманчивость «средней температуры по больнице», требующая типологической конкретизации. Да, ЛКА несомненно лидирует по критериям общности, но вместе с тем по многим сопоставительным измерениям разброс слишком велик. Тогда типология – незаменимый инструмент. И, как представляется, он с очевидностью востребован в арсенале того научного течения, которое принято именовать «цивилизационным подходом». Симптоматично, что один из столпов советской латиноамериканистики член-корреспондент АН СССР В.В. Вольский, увлекшись страновой типологией, нашел исходный материал анализа именно в цивилизационной разнокачественности30. В своё время, чувствуя ту же потребность в инструментах типологии, автор ввел в научный оборот категорию цивилизационной матрицы (и цивилизационного ареала), позволяющей отразить основные результаты общественно-экономического становления и их расхождение по базовым характеристикам31.
Содержание указанной категории определяется нахождением типического (своего рода архетипов) в множестве конкретных вариаций, которые давало формирование экономик и социумов по результатам конкисты и освоения занятых пространств. XVI век – первый век колонизации – принес возникновение и утверждение гибридной матрицы там, где конкисте предшествовали высокие доколумбовые культуры, где еще до конкисты возникли институты государственного (или даже, условно, имперского) порядка. Перу, Мексика, Боливия и Гватемала концентрированно представляют первую матрицу. География перечисленных стран определяется горным рельефом. Нагорье – их типичный ландшафт. В основе социальной пирамиды здесь оставалась производящая автохтонная община, способная на выдачу добавленного продукта, который позволял адекватно прокормить всю социальную пирамиду, включая, конечно, обеспечение роскоши имперских верхов. Конкистадоры, поэкспериментировав (не всегда удачно) с утверждением своей власти, де-факто заместили собой лишь верхнее звено общественной пирамиды, оставив нижестоящие действовать почти в прежнем режиме. Понятным исключением была жреческая каста, замещенная католическим клиром.
Начав существование в XVII веке и в полной мере утвердившись в веке XVIII-м, обрела свою жизненную почву матрица плантационного рабства. Она характеризовалась, соответственно, принудительным переселенчеством, вытеснением автохтонного населения, врожденной ориентацией на спрос мирового рынка (пусть опосредованный метрополией)32. Жизненность такой матрицы обеспечивалась природной средой – влажными тропиками равнинной местности преимущественно в приморской зоне. Классику этой модели представляют Куба, Доминиканская Республика, а также Карибское побережье Колумбии и Венесуэлы.
Последняя матрица хронологически сложилась на рубеже XIX и XX веков в основном в результате свободного переселенчества из европейских стран, переживавших аграрное перенаселение, политические пертурбации и военные конфликты. Она масштабно проявила себя частично в сельской, частично в городской среде. Наиболее характерна эта матрица для Аргентины и Уругвая – стран небезосновательно называющихся ныне квазиевропейскими (идеал этнодемографического микса, еще не достигнутый в зоне Евросоюза). Иными словами, переселенченская матрица вполне заслуживает прилагательного аргентино-уругвайская.
Оставаясь в общем ряду регионоведческих школ, латиноамериканистика обладает рядом несомненных особенностей. Их необходимо учитывать сегодня при изучении реакции латиноамериканских экономик и обществ на ключевые глобальные процессы, а также при оценке способности регионоведческой школы вносить лепту в обобщение мирового опыта. Итак, к чему можно свести ее специфику? ЛКА, во-первых, уникальна тем, что имеет парадоксальное сочетание несомненной цивилизационной общности и широкого диапазона национальных ситуаций, демонстрирующих разность исходных матриц. Общность отмечена беспрецедентным лингвистическим родством, преобладающей конфессиональной принадлежностью, весомым и часто определяющим присутствием иберийского компонента в национальной культуре. Наконец, повсеместно сказывается сходство исторических судеб стран ЛКА. Национальная государственность стала, как правило, результатом первой волны деколонизации в латиноамериканской части региона и результатом третьей в случае карибских государств33.
Налицо беспримерное родство, с которым может соперничать лишь арабский ареал. Но он заметно меньше по суммарному населению и занимаемому пространству. Другое обстоятельство – в арабском ареале обнаруживается и воспроизводится цивилизационная преемственность даже при продолжительной колониальной летаргии. В латиноамериканском регионе ход истории определяется сломом преемственности, трансплантацией и укоренением метропольных тканей, а затем адаптацией либо гибридизацией общественно-экономических структур.
Не меньше впечатляют различия стран ЛКА: по степени экономической развитости, по стратификации социума, по композиции этнорасового состава, по качеству природной среды и ресурсной обеспеченности, по устойчивости системообразующих общественных институтов. Существующие различия в экономике можно проиллюстрировать красноречивым обстоятельством. Измеряя различия показателем ВВП на душу населения, мы легко обнаруживаем, что дистанция, отделяющая наиболее развитые страны региона от верхнего эшелона западного мира, меньше той, которая отделяет наиболее развитые страны ЛКА от наименее развитых соседей. Согласно пересчету ИМЭМО на эквивалент ППС в первом случае фиксируется двухкратный разрыв. Во втором случае мы видим максимум десятикратный и минимум пятикратный разрыв34. И, судя по статистике последних десятилетий, отмеченный разрыв имеет тенденцию к увеличению. Проиллюстрируем самоочевидными сравнениями. Думаю, наш читатель способен почувствовать разницу между квазиевропейской Аргентиной и квазиафриканской Гаити. Или, опять же, между квазиевропейским Уругваем и преимущественно индейской Гватемалой.
Третья ключевая особенность: ЛКА, возможно, в наибольшей мере выполняла и выполняет роль «экспериментальной лаборатории» мироисторического процесса. Здесь синхронно представлены практически все модальности, все ступени социально-экономического развития. Диапазон максимально возможный: от присваивающей первобытной общины до финансовой группы с высокой концентрацией активов и передовой цифровизацией бизнеса. Наряду с этим здесь представлен очаг консервативного социализма (Куба), а в ряде государств до недавней поры находили почву эксперименты в духе «социализма XXI века».
Сегодня, на исходе «деидеологизированного времени» остается соблазн свести мотивы создания академического центра латиноамериканистики к геополитическим побуждениям. Думаю, причины явно многограннее. К началу 60-х годов в советском социуме созрел соответствующий общественный запрос. Получена критическая масса первичных представлений о далеком континенте, пробуждавшая позновательный интерес. Впечатляет символическое совпадение – переход Кубы, ведомой антидиктаторской, антиимпериалистической революцией, в лагерь «реального социализма», с одной стороны, и – с другой – полет Гагарина. Он прямо возвестил миру о выходе на международную арену технологической мощи альтернативного центра, а косвенно – о претензиях советской державы на политику глобального уровня.
Конечно, еще до институализации латиноамериканистики проявили себя отдельные прецеденты. Стоит обратить внимание на 20-е и 30-е годы прошлого века – время веры в мировую революцию и миссию Коминтерна как прообраза общемировой компартии. В структурах Коминтерна, в среде его деятелей и экспертов, работавших в Москве, рождались первые публикации о реалиях стран ЛКА. Они не были многочисленны, и, конечно, отличались тендециозностью. Однако академическая, университетская публика все же получила минимум знаний о латиноамериканской современности. Кстати (что показательно), именно тогда (до создания ИЛА) стартовала специализация по латиноамериканской тематике сразу на трех факультетах МГУ – на географическом, экономическом и историческом. Поступая в МГУ в 1961 году, на экономический факультет, автор избрал Латинскую Америку, тематику которой стали преподавать на кафедре экономики зарубежных стран.
Шесть десятилетий существования академического центра латиноамериканистики отмечены, конечно же, печатью переменчивого исторического времени. В случае латиноамериканистики старт пришелся на период недолгой хрущевской оттепели35, которая, впрочем, слабо отразилась (может быть, не успела?) на тональности восприятия латиноамериканской действительности. Инерция давала себя знать в течение всего времени «первоначального накопления» знаний о регионе (первое десятилетие ИЛА, основанного в 1961 г.). Его плоды проявили себя во второй половине 70-х годов как результат обогащения наших представлений по мере более глубокого освоения эмпирического материала. С другой стороны, сказывалось, конечно, восприятие «нестандартных» реалий региона.
Советская латиноамериканистика, казалось бы, не могла и не должна была пройти мимо Карибского кризиса 1962 года. Действительно, не могла, но и не смогла в полной мере оценить его историческое значение и сопутствовавший ему резонанс в идейно-политической сфере (не нашего ума дело?). Фундаментальный труд, давший разноплановую оценку Карибскому кризису, подготовленный С.А. Микояном, вышел в свет только в 2006 году36, позднее (2021) был опубликован труд академика А.А. Фурсенко, выступившего в соавторстве с американским историком Т. Нафтали37. Непредвзятая оценка Карибского кризиса, по-моему, пришла еще позже – в ассоциации с восприятием специальной военной операции, объявленной 24 февраля 2022 года, и с осознанием сопутствующих ей рисков.
Тем временем в советском обществоведении, так или иначе, начали проявлять себя обновленческие тенденции. Их представителем стала кафедра политической экономии современного капитализма, которую в Ленинградском государственном университете (сейчас СПбГУ) возглавлял профессор С.И. Тюльпанов. Школа Тюльпанова сделала немало для того, чтобы особенности развивающихся стран (включая латиноамериканские) нашли достойное место в традиционном курсе политической экономии38. Практически одновременно начал выдавать концептуальные наработки отдел развивающихся стран ИМЭМО, возглавлявшийся чл.-корр. АН СССР В.Л. Тягуненко, а затем профессором Г.И. Мирским (одно время до Мирского отделом руководил Г.Е. Скоров).
Важнейшие достижения латиноамериканистики того времени (на переходе из 70-х в 80-е годы) связаны, во-первых, с фундаментальным анализом социального состава латиноамериканских обществ, в основном на базе традиционного марксизма (а как иначе?). И, во-вторых, с дискуссией относительно особенностей развития капитализма в периферийной зоне мировой экономики. В первом случае удалось отойти от стандартного восприятия социальной обусловленности антиимпериалистического и национально-освободительного движения. Пришлось заняться истолкованием «отклонений», продемонстрированных Кубинской революцией, согласиться (де-факто) с тезисом о наличии предпосылок построения социализма там, где ранее они не воспринимались (по крайней мере официозом).
С другой стороны, советские латиноамериканисты, рассуждая в духе идеологических установок своего времени, отмежевывались (как и было положено в наших пенатах) от апелляции к герилье, к вооруженной борьбе, представлявшейся оппонентами слева в качестве действительно революционной панацеи. В то же время замалчивалась критика в адрес «бюрократического социализма», с которой в ЛКА на то время выступали представители леворадикального течения и вошедшего в зрелую жизнь нового поколения «ревизионистов». Те обрели активность под влиянием диссидентства, стартовавшего в рубежном 1968 году, а позднее еврокоммунизма, продвинувшегося на политическую авансцену к исходу 70-х годов39
25
Уместно напомнить в этой связи о дебатах конца 80-х. См.: Давыдов В.М. «Третьемироведение» и латиноамериканистика // Латинская Америка. 1989. № 11. С. 3–17.
26
Там же.
27
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Развивающиеся страны в новом уравнении посткризисного мироустройства // Мировая экономика и международные отношения. 2022. № 11. С. 5–13.
28
The Global Risks Report 2023. Geneve: World Economic Forum, 2023.
29
Кувалдин В.Б. Глобальной мир. Политика, экономика, социальные отношения. М.: Изд-во «Весь Мир», 2017.
30
Вольский В.В. Избранные сочинения / МГУ. Гл. Генезис и формирование региональных. Цивилизаций. Москва-Смоленск: Ойкумена, 2009. С. 195–218.
31
См.: Давыдов В.М. Цивилиография и цивилизационная идентификация Латино-Карибской Америки. М.: ИЛА РАН, 2008.
32
Не позволяя отождествлять себя в полной мере с действительно системообразующей матрицей, требует комментария особый случай – анклавная модель XIX–XX веков. Она связана с возникновением ареалов горнорудных комплексов с ориентацией на внешний (мировой) рынок, при минимальном воздействии на окружающую социальную и хозяйственную среду. В данном случае вполне правомерна дефиниция, относимая к классическим проявлениям неоколониализма.
33
В качестве второй волны автор рассматривает освобождение от колониализма ряда азиатских государств непосредственно после Второй мировой войны.
34
См.: Год планеты: экономика, политика, безопасность. Ежегодник. Вып. 2021 / ИМЭМО РАН. М.: Идея-Пресс, 2022.
35
Напомним: в 1961 г. гроб И.В. Сталина вынесли из Мавзолея, а вместе с тем ушли и некоторые наиболее одиозные догмы. С другой стороны, тот год, отмеченный полетом Ю.А. Гагарина, пробудил эйфорические ожидания относительно перспектив советского общества.
36
Микоян С.А. Анатомия Карибского кризиса / ИМЭМО РАН. М.: Academia, 2006.
37
Фурсенко А., Нафтали Т. Безумный риск: секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г. М.: РОССПЭН, 2021.
38
Тюльпанов С.И., Шейнис В.Л. Актуальные проблемы политической экономии современного капитализма. Л., 1973.
39
Первый импульс еврокоммунизма проявился в июне 1976 г. на Общероссийском совещании компартий в Восточном Берлине. Тогда ряд компартий выразили сомнения в лидерской роли КПСС. Обоснования этой позиции в августе 1978 г. дал генеральный секретарь компартии Италии Энрико Берлингуэр, выступив в газете «Република».