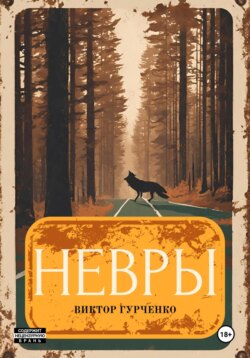Читать книгу Невры - - Страница 4
Глава 4
ОглавлениеДенис проснулся в шесть утра, и его сознание тут же полностью заполнила Злата. Посмотрев на часы, он понял, что идти к ней ещё рано и снова лёг, глядя в потолок. Вскоре в комнату зашла баба Нюра и рассказала, что возле речки спит Борис, и неплохо было бы его отнести домой. Денис растолкал спящего Юрика, и они вместе притащили домой бесчувственное тело несвязно бормочущего и постоянно улыбающегося товарища. Дождавшись вполне приличных девяти часов утра Денис собрал разрядившиеся телефоны и бодрым шагом отправился к усадьбе Чаровских. У пирса он остановился и всмотрелся в большие окна старого маëнтка. За шторами было ничего не разглядеть, но Злата, видимо, его уже ждала и сразу вышла из дому и направилась к плоту. Когда Денис ступил на причаливший к берегу паром, Злата поздоровалась и поцеловала его в щеку. Он было подался ей навстречу, но она уже отпрянула и нажимала кнопку включения буксира. Денис любовался Златой, не таясь и не скрываясь, зачарованно, как картиной в музее. Весёлый, с озорными чертенятами взгляд полыхал из-под фигурно очерченных щедрой природой тонких бровей. Денис будто растворился в ослепительной улыбке, слился с ней, стал её частью, распахнулся навстречу себе и той таинственной, неведомой силе, что звала его, тянула и манила, влекла за собой, в пропасть, в рай, или куда угодно, только с ней рядом, рядом с мечтой, рядом со Златой, рядом с идеалом. Её образ заполнил собой всё вздрогнувшее сознание Дениса, перевернул и вывернул наизнанку дрожащую душу, пронзил и победоносно водрузил табличку с потёртой надписью «Любовь» на молодом, живом, бьющем тамтамами сердце. Ускорил его ход, поглотил и наполнил его перекатывающимися ртутью комками, терзающими и влекущими, волнующими и тянущими, такими, казалось, знакомыми, но, вместе с тем, неизвестными и задевающими тонкие струны души, играя на них завораживающую и торжественную мелодию.
– я уже всё приготовила, – сказала Злата, открывая входную дверь, – ты же помнишь, что мы сегодня хлеб печь будем?
Денис пробормотал в ответ что-то неразборчиво-утвердительное, так как восхищённо вращал головой, глядя по сторонам. Он будто попал в другую реальность – внутреннее убранство усадьбы резко контрастировало с потëртым внешним видом. За тёмно-красными дубовыми дверями, щедро покрытыми лаком, лежала ковровая дорожка, поднимающаяся по гладким гранитным ступеням на площадку гостиной, пол у дверей блестел чёрной и белая плиткой, разбросанной в шахматном порядке. Два высоких узких окна украшали витражи с зелёными, красными и фиолетовыми элементами. Пол круглой гостиной сиял натëртым до блеска паркетом, а в его центре находилось большое изображение восьмиконечной звезды. Над окнами, дверями и на идущем каскадами потолке, была выполнена искусная лепнина, но больше всего поражало, что во всех декоративных элементах были частички янтаря. Им были украшены и балясины лестницы, и изогнутые широкими дугами рожки массивных люстр, свисающих с потолка на золочёных цепях, и камин, и даже резные стулья из тёмного, практически чёрного дерева. Повсюду в широких кадках стояли папоротники, монстеры и другие неизвестные Денису растения. На стенах гостиной располагались высокие узкие зеркала в рамах с золотыми вензелями.
– что, отличается от внешнего вида? – с лёгкой улыбкой спросила Злата.
– о-фи-геть, – Денис перевёл распахнутые глаза на Злату, – так вот, что значит хозяйка янтарного дома?
– ладно, успеешь осмотреться, пойдём на кухню, ты обязательно должен мне помочь с хлебом.
Кухня в доме была вполне современная, лишь фасады кухонного гарнитура были выполнены в классическом стиле. На столе уже ожидали все необходимые ингредиенты: мука, соль и ячменные дрожжи, на разделочной доске стояла специальная форма для выпечки. Выполняя указания Златы Денис смешал всё в необходимой пропорции и, вооружившись мешалкой, стал болтать получившуюся массу.
– так зачем ужу хлеб? Ты так и не объяснила, – спросил Денис, замешивая тесто.
– если он примет дар, то может оставить нам золотые чешуйки со своей короны, а они волшебные.
– прямо волшебные? – с легкой иронией переспросил Денис.
– с их помощью можно «папараць-кветку» найти в купаловскую ночь.
– а разве она существует? Насколько я знаю, никто до сих пор её не находил, это миф, папоротники голосеменные растения, они не цветут.
– конечно миф, – с усмешкой ответила девушка, – папоротники, на самом деле, не голосеменные, они папоротниковые, но да, цветов у них не бывает. Однако, предание про папараць-кветку понимают неправильно – это не цветок папоротника в прямом смысле, это то, что ты хочешь больше всего и то, что ты можешь найти именно в купальскую ночь. Например клад с золотом, или любовь, или…
– или цветок папоротника, – перебил её Денис, – вдруг ты хочешь больше всего именно его.
Злата рассмеялась и испачкала Денису нос мукой.
– а как змеиные чешуйки подскажут, где искать то, что ты хочешь?
– каждому они подскажут свой путь, по крайней мере так говорится в преданиях.
– как компас Джека Воробья?
– ну.. – Злата на мгновение задумалась, – наверное, что-то в этом роде.
– и многие находили?
– а все ищут не в то время.
– а мы в то будем искать?
– а мы в то будем искать, – подтвердила Злата и снова обворожительно улыбнулась, отчего Денис тоже расплылся в ответной улыбке.
– знаешь, – задумчиво сказал он, – мне кажется, что я свою папараць-кветку уже нашёл.
– не могу проверить своим ушам, – Злата картинно удивилась, – какой тонкий подкат!
– какой толстый троллинг, – обиженно ответил Денис и деланно надулся. Злата снова быстрым движением мазнула его по носу мучной ладонью.
– слушай, – перевёл тему раскрасневшийся парень, – а это действительно уж переросток, или другой вид змеи?
– сейчас, подожди, – Злата вымыла руки под краном, тщательно их вытерла и вышла из кухни, – пойдём со мной, – бросила она Денису, и он послушно последовал за ней.
Пройдя через круглую гостиную они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в комнату с массивными книжными шкафами, под завязку набитыми потрёпанными фолиантами и сериями русской и зарубежной классики. Потолок в комнате был скомпонован из тёмно-коричневых деревянных стропил с фигурным теснением, между которыми пестрили яркие узоры с включением янтарных капель. Злата подошла к одной из полок и достала большую толстую книгу. Посмотрев на обложку она кивнула и сказала:
– то, что надо! Вот почитай, покуда тесто подходит, а я пока нам корзину для пикника подготовлю, – и девушка вышла из комнаты, оставив Дениса одного. Осмотревшись он сел в кожаное кресло напротив огромного плоского телевизора, висящего на стене. Книга приятной тяжестью легла на колени, и Денис прочитал название: «Мифы и легенды Беларуси». Пробежавшись глазами по оглавлению он нашёл главу «царь ужей» и перекинул большую часть страниц, в поисках нужной. Вот пошли главы на букву «ц», и взгляд зацепился за слово в оглавлении – «Цмок». Денис остановился и стал Читать.
Цмок (польск. Smok) – дракон в белорусской и польской мифологии. В отличии от европейского дракона, цмок не враждебен человеку.
«И волк помощник, и дракон не враждебен», – мысленно хмыкнул Денис, – «да, действительно, у нас разные с европейцами представления об окружающем мире», – подумал он и продолжил читать.
Сохранившееся на Беларуси слово «Цмок» в противовес «Змею», делающему акцент на «земляной» природе дракона, указывает на водную стихию. В некоторых белорусских диалектах словом «цмок» называют вясëлку-радугу, которая как бы «выцмактывает» воду из реки или озера. «Цмактаць» означает «высасывать, осушать, лишать воды, влаги».
Денис пробежался взглядом по странице, пропуская этимологию названия и остановился на описании животного.
Видом тот змей был как зверь фока, такой же лоснистый, в складках, только без клыков. И серый, как фока. Но длиннее, чем тот, весьма. Потому что длины в нём было семь с половиной логойских саженей, а если поинтересуется немец, то восемь и одна пятая фадена, а если, может, ангелец, то сорок девять футов и ещё двадцать два дюйма.
– Фока?, – спросил сам у себя Денис, – какой ещё Фока? Да уж, – констатировал он, – чем дальше в лес, тем толще партизаны, – но читать продолжил.
Туловище имели эти змеи широкое и немного сплюснутое, и имели они плавники – не такие, как у рыбы, а такие точно, как у фоки, толстомясые, широкие, но не очень длинные. Шею имели, к туловищу, так тонкую и слишком длинную. А на шее сидела голова, одновременно похожая и на голову змеи, и на голову лани.
И видит Бог, смеялась та голова. Может, просто зубы скалила, а может, потешалась над нашими бедами. И зубы были величиной с конские, но острые, и много их было на такую голову, даже слишком.
Глаза огромные, как блюдца, мутно-синие в зелень, остекленелые. И страшно было смотреть в эти глаза, и мурашки по спине, будто Евиного змея увидел, и неудобно как-то, и будто в чём-то виноват.
К тексту прилагалась иллюстрация, на которой был изображён зверь, похожий на плезиозавра. Денис внимательно всмотрелся в картинку и вспомнил вчерашнее купание в Волке, от мысли про цмока его передёрнуло. Он пролистал книгу назад до главы «Царь ужей» И стал читать.
Повелитель всех ужей и пресмыкающихся вообще. Охранник всех сокровищ и подземных кладов. Отличается очень крупными размерами и наличием золотой «короны». Чаще всего описывалась как имеющая вид сросшихся концами листочков с размежеванными по окружности золотыми рожками. Увидеть ужиного короля можно было чаще всего на рассвете, когда он предводительствует всеми гадами, отправляющимися на зиму, в так называемый «уласны вырай» (собственный ирий/рай). Корона ужиного короля наделялась особенными волшебными свойствами. Кто мог заиметь ее или хотя бы 1-2 рожка с нее, обретал способности понимать язык зверей, птиц и растений, читать чужие мысли, справляться с различными сложными ситуациями, тому человеку всегда везло (например, в охоте на диких животных). На владельца ужиной короны или ее части не действовал никакой яд. Вору она позволяла беспрепятственно проходить все замки и запоры. Иногда обладателю короны приписывалась способность видеть спрятанные клады.
Добыть фрагмент короны можно было так: на пути короля ужей и его подданных постелить скатерть или белый рушник, на него положить хлеб-соль и низко, до земли, поклониться ужу. Тот, переползая через рушник, в знак благодарности сбросит на него свою корону или несколько рожков с нее.
Согласно западно-белорусским преданиям, великий король ужей, родной брат Акопирнаса. Имеет на голове большую золотую корону, мог ходить стоя на хвосте. Все ужи были либо его детьми либо подданными, которых он призывал используя богатырский свист, разносящийся по всей округе. Представления про Жалгуина-Каралюса являлись продолжением обычая держать ужа опекуна, распространенного в Литве и Беларуси – до начала 19го века во многих домах вместо кошки держали ужа, об чем писали многочисленные путешественники и послы (Сигизмунд Гербейнштейн). Ужиный король следит за тем, что бы никто не обидел хозяина, у которого жил или живет уж-домовик. Что бы призвать Ужиного Короля на помощь, нужно зажечь свечку, сделанную из жира умершего домашнего ужа – свет этой свечки мог осветить все околицы. Увидев его, Ужиный Король собирал всю свою ужиную силу и мстил обидчику. Знал где хранятся подземные клады, мог помочь с деньгами.
Дальше шла информация о похожих преданиях о ужином царе у других народов, разные названия на других языках, после был напечатан небольшой рассказ о парне, который случайно встретил ужиного царя, ведущего за собой всех своих подданных. Когда змеи стали купаться, парень украл у царя его корону, оставленную на берегу, и убежал. И гнались ужи за ним, пока не выбросил он корону, только благодаря этому и выжил.
В конце главы был как-то по-детски нарисован огромный уж с короной на голове, стоящий вертикально, опираясь на хвост.
Денис пролистал книгу в случайном порядке. Перед глазами мелькали главы: «озеро Свитязь», «поморак», «девушка и змей»…и вдруг Дениса осенило, он пролистал до буквы «Н» и довольно улыбнулся, вот оно! Глава называлась «Неврида, легенда о неврах», он устроился поудобнее и стал читать…
Из-за отсутствия дошедших до нас письменных источников ранняя история славян очень туманна . В последнее время независимо друг от друга археологи, лингвисты и генетики приходят к выводу, что колыбелью славян было Полесье, а также юг современной Польши. Поэтому с протославянами можно отождествлять описанных античными авторами невров.
Неврида! Таинственная страна первобытных лесов, непроходимых болот и синих озер. В начале II тысячелетия до н.э. именно здесь забился один из древнейших, если не самый первый, родник славянской жизни. Медленно, величаво несут свои воды Западный Буг, Припять, Нарев, Горынь, Стырь, Случь, Ясельда, Стоход, Турья, Цна, Волка, Ствига, Лань и еще сотни рек и речушек и тысячи ручейков. Всех и не перечислишь. Также неторопливо текли столетие за столетием в этом нетронутом краю.
Нетронутым потому, что исконно обитавшие здесь праславяне будто слились с природой, растворились в ней. Пуще того – сроднились. Недаром у рек Невриды такие глубоко славянские названия. Для чужеземца тамошние пущи – беспросветная темень и непролазный бурелом. Для невра же, жителя Невриды (Волыни и Западного Полесья), – родной дом с множеством троп и тропинок. И не спутаны эти дорожки в безнадежный клубок. Каждая из них ведет то к небольшому деревянному граду, то к укрытым среди ив речным челнам, то к засеянной злаками лесной поляне, а то к медвежьему логову или волчьей норе.
Невридой назвал этот волшебный край древнегреческий историк Геродот. Сам он до столь северных широт не добрался. Но много наслышался о чудесах, творившихся в земле невров. Например, скифы Северного Причерноморья взахлёб рассказывали ему о том, что один раз в год каждый невр превращается на несколько дней в волка, а потом снова принимает человеческий облик. Серый волк, верный друг Ивана-царевича, пришел в наши сказки из таинственной Невриды. Случайно ли воображение скифов и греческих торговцев рисовало картины фантастических превращений тамошних праславян в диких зверей? Или за красивой легендой скрывается нечто большее? Вот послушайте повесть о борьбе лесных невров со скифскими набегами, тогда узнаете.
Невры, или племена милоградской культуры, известны с рубежа II и I тысячелетий до н.э. Когда-то из заселëнного ими Полесья вышел прародитель всех славян Таргитай и привел своих людей на Средний Днепр. От него пошли чернолесские племена, что смело двинулись из лесных чащ на юг и освоили плодородную лесостепь Восточной Европы. Вскоре там возникли сколотские «царства». Одновременно с продвижением в полуденные страны другая часть праславянских племен продолжала расселяться на закат солнца от Полесья. И в конце концов достигла Янтарного берега.
Так самые сильные праславянские племена ушли на запад и на юг, расширив пределы своей древней прародины. А другие роды, у которых сильных мужчин-воинов было поменьше числом, да медного и бронзового оружия не хватало(все больше каменные топоры), остались на берегах Западного Буга, Нарева и Припяти с ее притоками. Вот этот край Геродот и назвал позже Невридой.
В I тысячелетии до н.э. Неврида была мостом, связывающим воедино две могучие ветви славянской прародины – лужицкие племена и сколотов (скифов-пахарей по Геродоту). Недаром некоторые ученые связывали с неврами смешанную скифо-лужицкую (высоцкую) культуру. Попасть из сколотских «царств» на Янтарный берег можно было лишь через Невриду или перевалы в Карпатских горах.
Зная, что проходы в Карпатах сторожат горные крепости лужицких племен, кочевые орды Северного Причерноморья (киммерийцы, а после них скифы) частенько пытались пробраться на Вистулу и Одру через Волынь и Западное Полесье. В результате нападению подвергались не только лужицкие, но и милоградские праславяне – обитатели Невриды.
Неврида была северным соседом сколотских царств.
Не раз лесные воины-невры приходили на выручку сколотским дружинникам, охранявшим общую степную границу славянской прародины на «Змиевых валах». Ведали жители Невриды: погубит враг лесостепь – и до их градов доберется. И вот однажды, чтобы одолеть мужественное сопротивление сколотских богатырей, скифские цари задумали разорить их прочный тыл – край лесных праславян.
Наконец, была еще одна причина, вызывавшая степные набеги на милоградскую землю. Конечно, не было в ней золота или серебра. Но, как и все люди праславянского языка, невры были живучими и привычными к труду. А именно такие рабы ценились на рынках Понта. Как пастбищные, земли лесного края и интересовали царских скифов – обладателей бесчисленных стад скота. Зато скифская знать была готова хоть всех невров переловить и надеть на них невольничьи ошейники.
Могущественнейший из скифских царей VI века до н.э. Арианта, занятый сперва борьбой со сколотами, а затем долгими походами на Вистулу и Одру, не мог одновременно напасть и на Невриду. Но вот последнее нашествие царских скифов на лужицкие земли было отражено легендарным Бодричем. Степные набеги на запад стали затихать, Сколотские же богатыри – Светозар и его братья – вели бесконечную борьбу с многочисленными ордами, что натравливал на них Арианта. Так степной владыка получил возможность вторгнуться в Невриду всей силою царских скифов.
Что представляла собою Неврида перед вторжением Арианты? То был действительно волшебный край, в точности воспроизводивший картину русских народных сказок. Всë происходившее в Невриде было окружено тайной. Чужеземные торговцы не доходили до берегов Западного Буга и Нарева, устрашëнные слухами о леших, водяных нимфах и лесных чудовищах. Даже соседи невров мало что о них слыхивали.
Обитатели Полесья жили скудно по сравнению с родственниками – сколотами лесостепи. Куда беднее тясминских теремов были их квадратные жилища, чуть углубленные в почву, Нe было у невров огромных городищ-крепостей с мощными валами и башнями. Да и где их ставить-то? Среди лесных дебрей не разгонишься. То же и с землицей. Не выращивали невры хлеб на продажу. Самим бы прокормиться. И большие стада не продержишь на малых лужках, что разбросаны по речным берегам, словно окошки в необъятном лесном океане. Зато для охоты и рыбной ловли – раздолье. Самые удалые да ловкие на медведя и вепря ходят, добывают лося и зубра – хозяина лесных пущ. Бывает, всем родом загоняют в засаду к обрыву небольшие стада диких лошадей – тарпанов.
Так и жили милоградцы. Плужное земледелие от сколотов мало еще кто перенял в Невриде. Грады свои среди болот ставили, в низинах. Чтобы захлебнулся в трясине враг, до них добираясь. Появились, правда, и другие грады, на высоких береговых мысах ставленые. Их, как и болотные поселения, старались земляным валом и прочным деревянным тыном окружить. Помнили о прошлых налетах киммерийского Огненного Змея. Там же в градах плавили железную и медную руду. Не бросали и каменное да костяное оружие, равно как и орудия труда.
Не было в милоградских племенах обособленных дружин. Не выделилась еще знать. Признавали и слушались старейших – у них мудрости больше. Всеми делами вершил род. Воинами считались каждый, мужчина и юноша племени. Лошадь редко использовалась для верховой езды, а для боя тем паче.
Почитали в лесной Невриде самых древних праславянских богов, а также, и в особенности, Рода и Рожаницу. Они помогали сохранить жизнь славянскому корню и вырастить малых детишек, поставить на ноги. Нелегко это было в краю дремучих лесов и туманных болот. Чтили еще лесных и водяных нимф. А было их множество. В каждом дубе, грабе, буке, ясени, в каждой сосне и березе жил по поверьям невров свой лесной дух. То же и в зверях диких, коих было изобилие.
В Невриде люди и звери жили вперемежку. Проедешь мимо деревянного града – не заметишь. Весь укрыт еловым лапником и ветками, а вал выложен дерном. Не град – лесок на холме, да и только. Ходили невры в волчьих и медвежьих шкурах, оттого сами на них были похожи, да еще заросшие густыми бородами.
Их воины носили доспехи из кожи зубра и укрывались деревянными щитами, обтянутыми кожей. Из оружия в особой чести была железная секира – и для боя, и для работы хороша. Но их не хватало. Зато в избытке в родовых градах хранились для нечаянного случая деревянные булавы да палицы, каменные топоры, кремневые копья и дротики, железные да костяные стрелы, медные чеканы.
Такой была девственная земля Невриды в злую годину нашествия Арианты. Три орды царских скифов выступили с ним в поход. Пока скифы-кочевники, исполняя волю Арианты, бились со Светозаром и другими богатырями сколотов на «Змиевых валах», полчища степного владыки ураганом прошли по междуречью Пиретоса (Прута) и Тираса (Днестра). Разорили порубежье траспиев и агафирсов. Досталось и тем, и другим. Ожидали захватчиков на карпатских перевалах. Но от Тираса по Збручу и Серету скифская конница вышла к истокам Западного Буга и Горыни. Густые леса окружили всадников. Царские скифы вступили в волшебное царство Невриды.
Никто не встретил скифов на краю милоградской земли. Ни праславянское войско для боя, ни седобородые старейшины с дарами для изъявления покорности. Просто закончились просторные пашни траспиев и встали перед скифской конницей густые бесконечные леса Невриды. Передовые отряды кочевников обшарили ближние боры и рощи. Ничего: ни людей, ни селений, ни укрытых коровьих стад. Словно заколдовал кто-то неведомый весь лесной край и превратил его жителей в невидимок.
Нахмурился Арианта и велел произвести глубокую разведку. Среди холмистых дубрав и смешанных лесов обнаружили скифы истоки трех рек. То были Западный Буг, Стырь и Горынь. И каждой из трех орд назначена была дорога по одному из водных путей. Скифская конница скрылась под зеленым покрывалом, наброшенным на землю Невриды.
Чудеса начались сразу по вступлению в неведомый край. Ни один человек по-прежнему не попадался на глаза скифам. Зато диких зверей повидали великое множество. Но все больше мельком. Доносили Арианте, что на ехавшую впереди дозорную пару передового отряда спрыгнули с раскидистых деревьев две рыси. Скакавшие позади заметили только, как сбили звери всадников с коней и утащили в чащу. Поиск исчезнувших ничего не дал. Недоумевали бывалые воины: иные из них встречались с хищной рысью на Висле и на Северном Кавказе. Злой зверь, ничего не скажешь. Но откуда у него силы, чтобы человека в кусты затащить? Да так, что следов не найти. Странно…
Потом эти странности стали следовать одна за другой. Начать с того, что скифские орды постоянно сопровождались волчьими стаями. Каждую ночь слышался их жуткий вой. В этом-то ничего странного нет. Степные волки тоже всегда следовали за кочевниками на почтительном расстоянии в надежде попировать на месте их очередного набега. Но невидимые волки Невриды идут буквально по пятам скифов. Надеются на их погибель?
Через день скифы заметили какие-то непонятные создания, следившие за ними из густого ракитника. То ли волки, то ли люди в волчьих шкурах. Бросились к ним, а те словно испарились. А однажды на пятерку степных разведчиков напал исполинского роста медведь. Когда на их крики подоспела подмога, все было кончено. Бурый зверь исчез, а вместе с ним трое воинов. Двое же с пробитыми головами у толстенного дуба лежали. Не наступил же косолапый на них и не о дерево же стукнул, обхватив своими когтистыми лапами? Да полно, не милоградцы ли шалят?
Догадка подтвердилась вечером, когда в сумерках две (опять две!) рыси прыгнули на всадников дозора и сбили их с лошадей. Но дозорные были начеку, да и скакали теперь по трое, по четверо. Прямо меж ушей одной из лесных кошек опустился акинак. Убитое животное слетело с лошади, перевернулось на спину. Под оскалом звериной пасти показалось молодое безусое лицо. Невр! Его разоблаченный товарищ отчаянно сопротивлялся. Зарубил железной секирой двух скифов, но был изловлен арканом.
Так выяснилась хитрость невров. Поняли скифы, кто это воет по ночам, волками прикинувшись. Пойманного человека-рысь долго пытали, добиваясь через толмача сведений о лесных градах и воинах милоградских. Ничего не добившись, бросили на растерзание злым псам, что содержались в свите Арианты. Рысь – пусть по-звериному и сдохнет, велел скифский владыка.
Обнаружив себя, невры более не таили своего присутствия. Но, как и ранее, оставались людьми-невидимками. И людьми ли? Может, они полузвери? Один невр-бородач поразил, пока его успели разглядеть в густой листве, трех всадников. Сидел он на ветвях большущей липы и метал дротики в проезжавших скифов. Когда в него полетели скифские стрелы, будто растворился среди листьев. Так и не нашли его. Нe ведали скифы, что спрятался тот в дупле, выдолбленном в стволе той же липы. A еще трое невров, будучи обнаруженными на деревьях, стали прыгать с одного на другое, как белки, пока совсем не исчезли из виду.
…На ночном привале вынырнули из темноты волчьи тени. Скифы уж знали, что это за волки. Много их – целая стая, то бишь ватага, невров. Как их пропустили часовые (то, что стражей бесшумно сняли нападавшие, еще не было известно)? Среди тлевших костров с подвешенными на них котлами с пищей разгорелся жаркий бой. Невры в схватке не сбросили с себя волчьих шкур. Ловко орудовали секирами, палицами и булавами. Нападали, отбивались и снова нападали. Пока подоспела подмога тому отряду, что подвергся нападению людей-волков, полсотни воинов потеряли скифы. Завидев свежие силы степняков, оборотни в волчьих шкурах отступили в темноту и растворились в ночи.
Но хуже всего досаждали скифам волчьи ямы. Конница Арианты старалась пробираться по самой кромке берега Западного Буга (именно по этому пути пошла крупнейшая орда царских скифов во главе с самим степным владыкой). Однако берег зачастую оказывался топким. Кони вязли в уходящей из-под копыт земле. Приходилось забирать в сторону от реки. Тут и проваливались всадники вместе с лошадьми в замаскированные узкие норы, действительно напоминавшие волчьи ямы. На дне напарывались на острые колья и погибали. А если застревали между ними, то все равно ломали ноги. Еще не было счастливчика, который бы невредимым выбрался из волчьей ямы.
А несколько раз в ямах действительно сидели голодные волки. Они мгновенно набрасывались на добычу и загрызали упавшего всадника с лошадью, прежде чем товарищи успевали отбить их. Страшными были сюрпризы нервов. Однажды целый участок песчаного обрывистого берега, шагов в сто длиною, провалился и осыпался в Буг. С двадцатиметровой высоты полетели вниз кони и люди, ломая кости и сворачивая шеи. Как уж это удалось сотворить лесным колдунам, ведают только они и их славянские боги.
Скифам казалось, что с ними борются все лешие, лесовики, лесные духи и нимфы этого мрачного неразгаданного края. Не раз и не два полные сил деревья вдруг падали как подкошенные, задавив одного—двух, а то и больше степных наездников. Самострелы самого разного устройства без промаха поражали свои жертвы. То это был замаскированный в орешнике лук, то целое копье само по себе вонзалось в брюхо лошади или в грудь всадника, то летели сверху огромные колья или бревна.
Так шел день за днем. Самому Арианте поход в Невриду стал казаться кошмарным сном. Однажды скифский разъезд обнаружил милоградский поселок. Произошло это совершенно случайно. Степнякам нужны были сухие ветки и сучья для костра. Они отправились к валежнику, разбросанному на ярко-зелëном холме на берегу бужского притока. Взгорок на мысу оказался крутым. Всадники соскочили с коней и попытались взобраться на него. Один из них оступился, нога поехала вниз. И за сорванным дерном обнажилась свеженасыпанная земля. Вал, который недавно подновляли! Взгляд вверх – о, Арей! Да это не огромная куча валежника среди растущих берëз, а маскировка, прикрывающая деревянный тын!
В тот же миг костяные стрелы впились в нескольких скифских воинов. Остальные вскочили на коней. Поток стрел и дротиков усилился. В бешеной скачке лишь один степняк ушел от гибели. Не догнали его пешие невры. Вот где ко двору пришлись бы лошади! Да не было их в граде, что укрылся на высоком речном мысу.
Вскоре большой отряд кочевников окружил мыс. Было видно, как отчаливают от его крайней точки челны с женщинами и детьми. Некоторых из них достали скифские стрелы. Другие добрались до противоположного берега и скрылись в зарослях. В граде остались лишь воины, те самые оборотни, что день и ночь не давали покоя скифской коннице. Они бешено сопротивлялись. Никак степняки не могли преодолеть покрытый дерном вал и взобраться на деревянный тын. Арианта приказал поберечь людей. И так многих погубили проклятые колдуны.
На глаза скифскому владыке бросился сухой валежник и судьба града была решена. Сгорел он быстро вместе с прикрывавшими его стволами берëзок. У защитников не было больше челнов. Реку под скифскими стрелами не переплывешь. Но никто из града, не вышел… На пепелище скифы нашли лишь обгоревшие волчьи шкуры…
То был первый град невров, обнаруженный кочевниками. Арианта понял, что его конница с начала похода много раз проходила мимо таких замаскированных колдовских градов, возможно, буквально в сотне шагов, и не замечала их! Он разбил стан на бужском берегу. А сильным отрядам конницы велел пройти назад против течения реки, обшарить ее притоки и обследовать каждый речной мыс.
Воля царя была исполнена и скифы смогли отыскать полтора десятка градов. Надо ли говорить, с каким остервенением набросились кочевники на поселки невров. Но лишь в пяти из них оставались защитники, которые бились с врагом так же мужественно, как и в первом обнаруженном граде.
В остальных десяти случаях поселки были покинуты жителями. Но когда захватчики вступали в оставленные грады, их поджидали разные колдовские штучки. Стены и ворота одного из поселков враз обвалились и похоронили находившихся вблизи степняков. В другом случае град внезапно занялся огнем (поджигателя так и не нашли, а может, взаправду лесные духи напустили пламя?). Опять же сгорело несколько скифов. В ряде поселков в квадратных жилищах кочевников поджидали дикие звери: волки, медведи, рыси. Пока с ними справились, они загрызли или поранили не одного воина.
Невры-оборотни были изобретательны на выдумку. И как не стереглись степняки, почти всегда попадались на их новое «колдовство». В одном граде скифов атаковали лесные гадюки. Небольшие, увëртливые и агрессивные, они ужалили десятка два воинов. Кому не успели отсосать яд из ранки, те скончались. Надо сказать, что змеи (полозы и гадюки) часто использовались неврами. Они подбрасывали шипящих гадов в становище кочевников.
Несмотря ни на что Арианта взял и сжег (грабить было нечего) полтора десятка милоградских поселков на береговых мысах притоков Западного Буга. Полон же составлял чуть более сотни невров. Их изловили по лесам. То были неудачливые либо чересчур дерзкие оборотни, которых прихватили в момент совершения вылазки, или поселяне, пойманные на случайных тропах. Разве это добыча для великого завоевателя Европы и Азии? Арианта злился на себя за то, что не мог добиться решающих успехов в изнурительной борьбе с этими полулюдьми-полуволками.
Правда, однажды скифы выследили в чаще и захватили целый род, где были мужчины и женщины, старики и дети. Языческие боги праславян не помогли им обернуться в волков. Арианта рассчитывал выгодно продать лесных колдунов в Тире и Никонии. Но еще на дневном переходе те стали исчезать один за другим. И впрямь колдуны! Тянется караван невольников по лесу, свистят бичи конных надсмотрщиков. Вдруг один из невров в мгновение ока исчезает. Как сквозь землю проваливается. Колдовство!
Не ведали скифы, что вырыли невры норы на их пути, укрыли бревенчатыми крышками, а на них дерн да кочки приладили. Связь же с пленниками на волчьем языке установили, переговариваясь с полоном жутким подвыванием из чащи. Движется такой полон по лесистому берегу реки, чуть сдвинется крышка и – юрк в нору очередной невольник. Таким способом многие из них избежали злой участи.
Но на жажде отбить полон Арианта один раз подловил оборотней. Устроил засады со всех сторон на ночном привале. Кинулись воины в волчьих шкурах отбивать пленников и напоролись на них. В кромешной темноте и оттого в страшной неразберихе протекал ночной бой. Кто и ушел из полона на волю. Но немало людей-волков было зарублено акинаками. Сильны в ближнем бою царские скифы.
Однако то был последний успех Арианты в окутанном таинственными чарами краю Невриды. Скифская конница была остановлена на лесных озерах меж истоками Припяти и Западным Бугом. По левому бужскому берегу уже давно начались непролазные болота. Поэтому степняки пробивались в глубь Невриды по правому. Вдруг замаячили перед скифским авангардом волчьи шкуры. Стали удаляться к озëрам. Не спеша, двинулась за ними кочевая конница, опасалась нового колдовства или ворожбы. Кажется, всë было спокойно на этот раз.
Конница Арианты втянулась в дефиле меж двух озер, объятых сном. Утренний туман рассеялся, но безветрие окутало покоем здешний уголок Невриды. На выходе из разделяющей озера горловины колыхалась темно-серая масса. То войско оборотней-невров готовилось к битве. Наконец-то они приняли человеческий облик и встретят скифов лицом к лицу! Видно, и у лесных колдунов кончается терпение, думал Арианта. Не худо бы обойти праславян, да дозоры донесли, что дальние берега озер теряются в мертвой зыби трясин.
Что ж, испытают воины-волки всю силу лобового удара непобедимой скифской конницы. Арианта дал знак и первая лава пошла вскачь на врага. Ничего, что горловина узка. Мощнее будет удар. Как пробку из сосуда греческого вина, вышибет степная конница из неширокого межозëрного пространства колдунов-невров.
Когда атакующая лава прошла половину расстояния, отделявшего ее от невров, прибрежные воды обоих озер вдруг ожили. Стали увеличиваться в размерах росшие на мелководье камыши. Не все, но сотни из них. Вот они превратились в поднимающихся из воды милоградских лучников. А может это водяные, русалки и прочие речные нимфы? О том ли гадать всаднику, когда конь его, пронзенный костяной стрелой, падает на передние ноги. А сам он кубарем летит через лошадиную голову.
Да, на этот раз невры обернулись озерными духами и с помощью полых камышинок смогли устроить подводную засаду. Не иссякает поток костяных стрел. Губителен он для словно споткнувшейся о него конной лавы. Огромны потери у скифов, но это лишь четверть степного войска Арианты. Побелевший владыка приказывает двум конным отрядам проскакать по мелководью, круша в капусту камыши. Приказ его исполнен. Но ни пешему, ни конному не дано настичь водяную нимфу. Внимательный глаз может рассмотреть движущиеся по поверхности озер камышинки. Они удаляются от берега по мере приближения скифских отрядов, что прочëсывают мелководье.
Время ли за ними гоняться? Главное, отогнали озерных духов от места сражения. Вторая конная лава несется на рать невров. Та движется ей навстречу. Скачущие впереди кочевники замечают, что эта темно-бурая масса вовсе не войско праславян. Это большущее стадо могучих зубров. Невры оборотились зубрами! Такого не придумали даже хитроумные эллины. В их мифах, услышанных скифами в Ольвии, говорится только о полулюдях-полуконях, что зовутся кентаврами. Арианте, наконец, доносят о происходящем. Казни достоин номарх, ведущий лаву! Убоялся колдовских чар невров. Или взаправду принял зубров за оборотней? Только не сбил он всадников в плотный строи. Не скомандовал вовремя встретить могучих животных калëными стрелами. Успели бы скифы расстрелять несущихся на них зубров и сами сманеврировать.
Нет, поздно! Дико ревущие цари пущ всей массой ударили в метущуюся лаву скифской конницы. За последними зубрами уже видны невры-оборотни верхом на диких лошадях-тарпанах. Чадит дым и пахнет паленым. Оказывается, праславяне загнали стадо зубров в горловину меж озерами и довели до бешеной скачки горящими факелами. Теперь всадников второй лавы не собрать. Кто погиб под копытами бизонов, кто уцелел, трудно сказать. Невры на тарпанах отлавливают отдельных степняков, побивают их. Тем временем снова заскользили камышинки к берегу. Невры-водяные готовились к отражению третьей скифской лавы.
Довольно! Он, Арианта, не будет губить в этом заколдованном краю, где нет золота и богатых городов, свою лучшую конницу. Он уйдет, но вернется сюда зимой. И пусть невры станут хоть белыми волками (торговые люди от аргиппеев из-за Уральского Камня сказывали, что есть и такие), им не сдобровать. Замерзшие русла рек превратятся в прекрасные дороги. Скифы пройдут по ним через всю Невриду и разрушат ее колдовские чары, превратят в рабов злых оборотней.
Такую клятву дал себе Арианта и повел войско в обратный путь. Невры-оборотни шли за ним по пятам. Скифы чувствовали это по жуткому волчьему вою, что отдавался тревожным эхом каждую ночь. По-прежнему самострелы поражали впереди идущих. И по-прежнему стерегли свои жертвы волчьи ямы. Скорее бы выбраться из этого зловещего края!
Не ведали скифы Арианты, что еще более страшной была участь двух других орд, что выступили в поход против невров по рекам Стырь и Горынь. Если Арианте пришлось бороться с лесными и озерными нимфами, то им преградили путь болотные духи. Водяные, что водятся в болотах, страшнее озëрных. Горынь и Стырь несут свои воды в Полесье – край бездонных трясин и бесконечной топи. Почти с самого начала движения по Стыри и Горыни целые скифские отряды бесследно исчезали среди всепоглощавших болот.
Как по ним передвигались невры – непонятно. Но их волчьи шкуры часто виднелись на пути скифского войска. Оборотни заманивали кочевников все дальше и дальше в глубь Полесья, откуда не было дороги назад. Скифские орды старались держаться русла Горыни и Стыри. Но болотистыми и топкими были берега даже этих крупных рек.
Казалось, в Невриде нет твердой почвы. Земля под копытами скифских лошадей постоянно ходила ходуном. Одиночные провалы и потопления степных всадников стали не то что ежедневным – ежечасным явлением. Только колдуны-невры могли ходить по земле Невриды, не проваливаясь.
Несколько раз скифские конники замечали праславянские грады среди болот. Они возникали как мираж среди бесконечных кочек, тины, ряски и тонущих деревьев. Однако посланные на захват поселков отряды тонули в трясинах. Грады невров были заколдованы, как и вся их земля.
Лишь однажды упорные скифы добрались до праславянского поселка. Ведя лошадей под уздцы, они нащупали деревянный настил, положенный на метр ниже уровня болотной воды. И прошли-таки к граду, потеряв десятки воинов с лошадьми. Сгинуть было легче, чем в бою. Кто оступался и не попадал на узкий настил, моментально погружался в мутно-коричневую жижу. А оттуда уже не было возврата…
Натерпевшись страхов в пути по подводной деревянной дороге, степняки выместили все зло на колдунах-неврах. Град был сожжен вместе с защитниками. Когда сделавший эти скифский отряд тронулся в обратный путь, идущие впереди похолодели от животного ужаса. Волосы встали дыбом: болотные нимфы убрали деревянный настил! Мучительно, на прахе своих жертв, умирали среди вечной трясины степные воины.
Не дойдя до впадения Случи в Горынь, орда царских скифов повернула назад. Немногие из ее числа выбрались из Невриды. А третья орда, что шла по реке Стырь, растаяла без следа в нескончаемых болотах. Докуда она дошла, как погибала – неведомо. Нерушимо хранит свои тайны волшебная Неврида…
Обо всем этом не знал Арианта, выбираясь по Западному Бугу из милоградского края и посылая проклятия оборотням-неврам. Нe суждено было сбыться его угрозам. Перед последним большим лесом, что стоял на границе Невриды и земли скифов-пахарей (сколотов), кочевникам предстояло пройти через густо заросшую орешником лощину. Спустившись на самое дно оврага, а затем поднявшись по его крутым склонам, царские телохранители внимательно осматривали и проверяли дорогу, по которой проляжет путь великого Арианты.
Несмотря на то, что пребывание в заколдованной Невриде приближалось к концу, царские гвардейцы были начеку. В этом таинственном краю нельзя расслабляться ни на миг. Только так можно уберечь владыку степей, а значит, и свои жизни. Дюжина самострелов была успешно обезврежена. А у трех обнаруженных волчьих ям-ловушек выставили охрану для предупреждения остального войска.
Итак, путь для царя Арианты к последнему лесу Невриды открыт. Открыт и безопасен. В самом деле, нельзя же считать опасными настоящие волчьи норы, маленькие отверстия которых были найдены у левой кромки оврага. Во-первых, там действительно оказались матерые волки с волчицами. На всякий случай их уничтожили. Если даже и бросится какой-нибудь бешеный волчище в лощину и попытается впиться в горло царской лошади, то нет у зверя никаких шансов. Пo пути он будет пронзëн сотнями стрел и зарублен десятками акинаков. Во-вторых, поверх оврага выстроились две сотни воинов. Наконец, полсотни самых преданных всадников из числа номархов и знатных юношей сопровождают царя Арианту при переходе через лощину.
Вот процессия достигла самой глубокой точки оврага и стала взбираться наверх. До выхода из лощины чуть более ста шагов. Но что это?! Из тех самых злополучных нор высовываются волчьи морды. Нет, это шлемы невров. На миг над оврагом повисает тишина. Стоящим на кромке оврага скифским сотням кажется, что из нор выглядывают настоящие волки. Впрочем, это не важно. И заяц не проскочит рядом с владыкой степей. Через мгновение скифские стрелы пробьют черепа животных. Причем стрелами, пущенными как сверху, так и снизу. Скачущие с царем тоже заметили зверей и натянули тетивы бесподобных скифских луков. Смерть неврам, волкам, или как там их!
Но все это произойдет через какой-то миг. Произойдет тогда, когда могущественнейший воитель, покоритель Урарту и повелитель сотен народов разных языков отойдет в вечность. Точно в переносицу угодит костяная стрела, выпущенная героем-невром. Всего на миг опередит она скифские стрелы.
И прервет жизнь главного врага и разорителя праславян VI в. До н.э. Скифского царя, который мечтал не только невров, но и сколотов, венедов – всех людей славянской речи превратить в рабов либо уничтожить. Не сбылись страшные мечты. Сильнее владыки степей оказались волшебные чары Невриды.
Так оборотни-невры, превратившись в волков на время скифского нашествия, отразили его. Находясь в волчьем обличье, они поразили властителя Северного Причерноморья царя Арианту. Поэтому бывшие с Ариантой по возвращении в Скифию разнесли слух о людях-волках по всей степи, Легенда о колдунах-неврах достигла ушей греческих колонистов Ольвии, Тиры и Никония. А от них ее услышал и записал Геродот.
Интересно, что приведенная у Геродота легенда о превращении невров ежегодно на несколько дней в волков являлась вплоть до начала XX в. Популярным мотивом белорусского и литовского фольклора. А помните новеллу П. Меримэ «Локис» об оборотне-медведе? Действие ее также происходило не так далеко от Невриды.
Следы мифологии невров отразились в «Слове о полку Игореве», где в одном месте говорится о полоцком князе Всеславе Чародее, который «людем суляше, князем грады рядяше, а сам в ночь волком рыскаше: из Киева дорыскаше до кур Тмутороканя; великому Хорсови волком путь прерыскаше…» Будем помнить и мы, что невры-оборотни защитили сердце славянской прародины от скифского нашествия.
Денис на одном дыхании прочитал главу и поразился удивительным совпадениям истории с его сегодняшним сном. Люди-оборотни, змеи, медведи…
– здравствуй, Денис, – его мысли прервал Всеслав, стоящий в дверном проёме, опершись плечом о косяк, – пробелы в знаниях восполняешь? – он улыбнулся и вошёл в комнату. Денис переложил тяжёлую книгу на чёрный журнальный столик и поднялся. Всеслав пожал ему руку и сел в соседнее кресло. Взяв со столика пульт он включил телевизор, большой экран вспыхнул картинкой, и на нём появились колонны военной техники, танки, вздрагивающие всем своим закованным в броню телом при выстреле из орудия, пейзажи, непроглядно затянутые пылью, копотью и пороховым дымом.
– линия фронта стабилизировалась на подступах к Минску, – вещал закадровый голос канала «euronews», – наступление войск альянса остановилось на линии, почти полностью повторяющей рубеж обороны «линия Сталина», сейчас в зоне соприкосновения ведутся ожесточённые бои за стратегические районы и высóты. Сегодня позиции НАТО подверглись ударам высокоточных гиперзвуковых ракет «кинжал», что замедлило наступление сил альянса в белорусском направлении. К линии фронта подтягиваются с территории Украины освободившиеся российские войска. В целом ситуация на фронте тяжёлая…
Всеслав сделал звук потише и сел в пол-оборота.
– Денис, – начал он без былой улыбки, – вы со Златой уже взрослые люди, и я в ваши отношения не лезу, но ты должен кое-что знать, – он сделал паузу и направил на Дениса пронзительный взгляд небесно-голубых глаз, – Злата больна. Неизлечимо.
После этих слов Денис оцепенел и по коже у него пробежал холодок.
– у неё редкая форма астмы, – продолжил Всеслав, – пока она здесь, в пуще, всё хорошо, воздух здесь особый, но стоит только куда-то выехать, она начинает задыхаться и не может дышать. Она уже несколько лет живёт здесь, никуда не выезжая, так что подумай о ней. Ты уедешь отсюда, рано или поздно, но уедешь. Не делай ей больно.
Денис молча смотрел на собеседника, не зная, что сказать.
– я понимаю, Денис, тебе нужно переварить информацию, можешь ничего не отвечать, – прочитал его мысли Всеслав.
Повисшую тишину разбила Злата, впорхнувшая в комнату в ярко-синем сарафане, стянутом тесёмкой под грудью, а ниже свободно спускавшимся до колен. Увидев, что Денис общается с отцом, она улыбнулась своей очаровательной улыбкой и радостно сказала:
– о! Вижу, уже подружились! Тесто поднялось, пойдёмте хлеб лепить. И ты, папа, тоже пошли, ты обязательно должен поучаствовать!
– Злата, Злата… – добродушно вздохнул отец, – я то думал – ты у меня уже взрослая, а ты царя ужей собралась ловить.
– ну па-а-ап, – укоризненно протянула девушка, – не порти нам приключение.
Все вместе они направились на кухню, где из формы для выпечки выглядывало поднявшееся тесто. Злата придала ему форму каравая, положила на противень и вручила отцу, который поставил будущий хлеб в духовку. Злата поставила таймер на сорок минут и предложила Денису провести экскурсию по усадьбе.
Они переходили из комнаты в комнату, и Денис беспрестанно вращал головой, любуясь искусной отделкой, каплями янтаря повсюду, массивными люстрами и золотыми зеркалами. В большом зале, предназначенном, очевидно, для баллов, стоял чёрный рояль на тонких резных ножках.
– а кто у вас на рояле играет? – зачарованно спросил Денис.
– это мой инструмент, – с гордостью ответила Злата.
– круто, а я только на гитаре умею.
– ну тогда тебе и карты в руки, – девушка указала рукой на стену, где висела чёрная гитара с золотистыми узорами-вензелями на верхней деке. Денис снял инструмент и, усевшись на стул, провёл пальцем по струнам. Несколько колков пришлось подкрутить, чтобы звук приобрёл гармонию. Взяв несколько аккордов и убедившись в правильности настройки Денис заиграл:
– в глазах-полюсах арктический лёд
И в голосе северный ветер.
Ты так холодна, но мне хорошо,
Нас двое на этой планете.
Тают ледники, вот результат столь долгожданного лета,
Всё раздеты.
Только ты не таешь, не глотаешь солнца жгучую страсть.
Тают ледники, давно пора искать другую планету,
По свету.
Только ты не таешь, значит кто-то всё же вспомнит о нас,
Солнце вспомнит о нас…
Злата часто захлопала в ладоши.
– молодец, красиво! Давай теперь вместе попробуем! – она села за рояль и открыла крышку. Пальцы мягко легли на клавиши и, на удивление Дениса, из рояля потекла мелодия песни «Воспоминания о былой любви» Короля и шута. Аккорды Денис знал отлично и сначала робко, подстраиваясь под темп и тональность, а потом, уже смело ударяя по струнам, стал подыгрывать, добавляя к благородному академичному звучанию рояля звонкие гитарных ноты. Потом он перешёл на перебор, а Злата лёгкими гаммами добавляла фон. Получилось, как в мультфильме «бременские музыканты» – мелодия была такая прекрасная, что просто не было слов. А слов и не нужно было, двое музыкантов растворяли музыку друг в друге, поочерёдно переходя то на первую, то на вторую роль. Тонкие пальцы Златы то порхали по клавишам, то медленно меняли положение, заставляя рояль задумчиво гудеть, наполняя мелкой вибрацией корпуса всё помещение. Прозвучали последние ноты, вздрогнули под пальцами звонкие струны, мелодия, ещё повисев какое-то время в стенах зала, утихла и спряталась обратно в недра огромного рояля и чёрном зеве гитарной розетки. Парень и девушка посмотрели друг на друга и улыбнулись.
– а неплохо вышло, – довольно заключила Злата.
– я и не думал, что ты короля и шута играть умеешь.
– думал, я больше по деревенским напевам? – Злата хищно сощурила глаза.
– да нет, я не о том, – спохватился Денис, – просто ты и панк-рок…
– я люблю хорошую музыку, независимо от жанра, а вообще, мне из короля и шута много чего нравится, – ответила Злата и снова, ударив по клавишам, наполнила зал той же музыкальной темой, – жизнь музыканта коротка, но вера в рок крепка, – пропела она высоким, почти оперным голосом, – и микрофон опять возьмёт рука бессмертного Горшка…, – Злата улыбнулась и закрыла клавишную крышку, глядя на обалдевшего Дениса, – ладно, хватит пока музыки, хлеб подоспел, пойдём в поход собираться.
Тёмно-коричневая корка свежеиспечённого хлеба аппетитно лоснилась под лучами врывающегося в окна кухни полуденного солнца. Злата завернула его в белый с красным орнаментом льняной рушник и положила в корзину. Уже возле двери Денис остановился и ощупал карманы
– да, чуть не забыл, – он извлёк из шортов три смартфона, – можешь на зарядку поставить?
– конечно, давай, – Злата, забрав телефоны, ушла на второй этаж, а Денис остался у двери с корзиной в руках. Ещё раз окинув взглядом гостиную он заметил спуск на ещё один нижний этаж.
– а там что? – спросил он вернувшуюся Злату.
– там… – она на мгновение замялась, – там склад всякого барахла отцовского, ну пойдём уже, – девушка открыла дверь и потянула Дениса за собой, взяв его за руку.
Паром, плавно покачиваясь на сверкающих водах капризной Волки, медленно двигался к берегу. Злата, легко и неуловимо улыбаясь, задумчиво смотрела вперёд. Её светлые волосы ласково трепал лёгкий ветерок, колыхал и подбрасывал их в такт мелкой качки деревянного плота. Денис завороженно и не таясь смотрел на прекрасную спутницу, его с головой накрыло ощущение того, что счастье здесь, счастье вот оно, что лучше быть уже не может. «Застынь, мгновение, ты прекрасно», – так должен был сказать Фауст Мефистофелю, когда будет готов отдать ему свою бессмертную душу. Денис был готов отдать и душу, и руку, и сердце, и голову на отсечение, лишь бы вечно стоять на этой небольшой палубе и любоваться нежной и прекрасной Златой, наслаждаться моментом, наслаждаться жизнью.
– глазки поломаешь, – вдруг прервала полёт его мысли Злата, – на мне узоры не написаны и цветы не растут.
– извини, – Денис смущённо отвёл глаза, – ты просто очень красивая… Любуюсь…
– ладно, – она широко улыбнулась, – платы за просмотр не беру.
Плот причалил к берегу, и Денис шагнул на вымощенный камнем пирс. Он подал Злате руку, после чего, не отпуская нежной ладони, зашагал по жёлтому песку к лесной просеке.
Лес сегодня был солнечным и загадочным, таящим и скрывающим какую-то тайну, он стрелял стволами огромных сосен, качающимися даже от небольшого ветра, ухал внезапно проснувшимися средь бела дня совами, наполнялся лёгким щебетом летних птичек-однодневок. Денис вёл Злату за руку, но, на самом деле, вела его она. Наконец, миновав чащу, сплошь усеянную буреломом и вывернутыми ураганом корнями, они вышли на небольшую поляну, всю покрытую серыми камнями, в центре которой находился огромный валун с плоской вершиной. Присмотревшись Денис понял, что камни вокруг гигантского валуна расположены по расходящейся спирали.
– вот здесь мы хлеб и оставим, – уверенно сказала Злата.
– это какое-то культовое место? – полу шепотом спросил Денис.
– да нет, – пожала плечами девушка, – голый расчёт: змея – рептилия, а значит хладнокровная, а значит, – она подняла вверх указательный палец, – она будет искать камень, чтобы погреться на солнце, и искать будет камень по размеру. Логично? Логично! – подытожила она и расстелила на валуне рушник, – уж молодой, сбрось рог золотой, – прошептала Злата и положила на разостланное полотенце свежий ароматный каравай, – а теперь, – торжественно произнесла она, – у нас с тобой пикник!
Денис жадно обхватил руку Златы ладонью и произнёс:
– с тобой хоть на корм к змеям!
Выбравшись из мрачного густого бурелома они нашли подходящую поляну и устроились на её окраине. Расстелив покрывало на мягкую податливую траву Злата накрыла на импровизированный стол нехитрую походную снедь: нарезанное тонкими ломтиками, усеянное мелкой хлебной крошкой сало аппетитно резало глаз тонкой мясной прослойкой, свежие огурцы и помидоры источали приятный запах огорода.
– самая вкусная еда на природе, – бодро произнесла Злата и принялась нарезать овощи. Денис наблюдал за её ловкими движениями и снова невольно залюбовался тонкими чертами красивого лица. Трудно было поверить, что где-то там, внутри сидит тяжёлая болезнь. А может это проверка, или попросту пугалка? Да и вообще, имеет ли это сейчас какое-либо значение?
Вдруг, на противоположной стороне поляны послышался треск сухих веток и глухое утробное фырканье. Как по команде Денис со Златой повернули головы в сторону звука. Тяжело ступая на поляну вышел огромный бык, шерсть его, как у яка, свисала почти до земли, но была гладкой и шелковистой. Как у откормленного кота она лоснилась на солнце и перекатывались блестящими волнами при каждом шаге животного. Но самыми удивительными были его рога. Огромные, растущие вразлëт, как у древнего тура, они резко загибались вверх после длинного, как труба, участка. Сотни мелких блестящих наростов, точно чешуя рыбы, отражали свет солнца и делали рога сверкающими, серебряными и мерцающими, словно вода в свете луны. Бык шумно втянул воздух и, задрав голову к небу, издал протяжный трубный звук. В тот же миг из чащи на поляну вышла его самка и неловкий спотыкающийся телёнок. Все они принялись лениво и неспешно щипать густую сочную траву.
– а это кто? – спросил Денис сдавленным голосом.
– это турсик, – шёпотом ответила Злата, – очень редкое, почти вымершее животное, – она широко улыбнулась и заговорщически посмотрела на Дениса, – встретить турсика считается в народе очень хорошей приметой, это к счастью.
– в первый раз слышу, а тем более вижу, – Денис не отрывал глаз от семейной идиллии странных животных.
– а ты волка или медведя когда-нибудь в дикой природе видел? – спросила Злата и, не дождавшись ответа, продолжила, – а их много, и в их существовании ты не сомневаешься, верно? – Денис только кивнул в ответ, – иногда нужно отбросить предрассудки и верить своим глазам, всё новое часто бывает у нас прямо под носом, но рамки здравого смысла закрывают от нас это.
Солнце, тем временем, спряталось за стремительно налетевшую тучу, и рога удивительных животных стали тёмно-серыми, как у обыкновенной коровы, да ещё и покрытыми странными мелкими чешуйчатыми наростами. Очарования лунного мерцания будто бы и не было. Небо расколол оглушительный и яростный раскат грома, и поляну вмиг накрыла тень тëмно-синей грозовой тучи, которая очень быстро, будто перекатываясь чёрным набухшим валом по синему гладкому небу, закрыла собой солнечный свет и всё пространство над лесом. Небо ещё раз разгневанно разорвалось громовым кашлем и ветер, вдруг рванувший из глубин пущи, наклонил высокую нечёсаную траву, разглаживая и придавливая её к плоской поверхности поляны.
Бык вздрогнул, и по его крупному телу пробежала волна беспокойства, всколыхнув копну густой шерсти. Он несколько раз громко фыркнул и нехотя, словно признавая поражение перед непогодой, направился в лесную чащу. За ним послушно затрусил телёнок, а самка замкнула отход, с подозрением оборачиваясь на людей, сидящих на другом конце поляны.
– похоже, что и нам пора прятаться, – сказал, поднимаясь с покрывала, Денис. Злата стала торопливо собирать продукты обратно в корзину. До них стали долетать первые рваные капли приближающейся грозы, ветер усилился, и лес взволнованно зашумел и затрещал гнущимися под напором ветра стволами. Дождь быстро пересёк поляну, наступая плотной серой стеной, тяжёлые капли звонко били по ветвям деревьев, по траве, по листьям. Денис со Златой спрятались под ближайшим дубом, но дождь был такой сильный, что раскидистые ветви огромного дерева не справлялись с потоком и проливались насквозь. Денис достал из корзины наспех скомканное покрывало и растянул его над их головами. Крупные капли глухо барабанили по натянутой поверхности, покрывало вскоре потяжелело, и Денис невольно опустил его ниже, накрывая себя и Злату. В маленьком пространстве воцарился полумрак, края покрывала намокли и свисали вниз влажными липкими полями. Злата обняла Дениса и прижалась к нему. Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза на расстоянии десятка сантиметров, потом Денис наклонил голову и поцеловал Злату. Она с шумом вдохнула и закрыла глаза, отвечая ему. Они целовались бесконечно долго, услужливое время растянулось и замедлилось, дождь ослабил напор, но стал более частым и занудным и уже перестал выбивать дробь по их импровизированному шатру. Поднятые руки затекли и ныли, но Денис про них словно забыл. Ловя порывистое дыхание Златы, какое-то карамельное и обволакивающее, он упивался моментом, тонул во влажной мягкости губ и жадно их целовал.