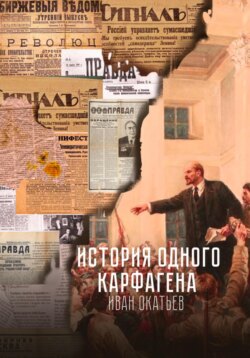Читать книгу История одного Карфагена - - Страница 1
Революция 1917
Начало
ОглавлениеСвободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать.
Альбер Камю
18-го февраля 1917-го года в Петрограде забастовал огромный Путиловский завод. Участие в этом поначалу приняли не все рабочие, далее – всё больше, а вскоре забастовка перекинулась на другие предприятия. Интересно, что это не вызвало особой тревоги, несмотря на то, что с начала Первой Мировой войны в 14-м году демонстрации резко пошли на спад, а теперь начинались с новой силой, хотя и не в довоенных грандиозных размерах.
Во всяком случаи, через четыре дня, 22-го февраля, когда Николай II, будучи верховным главнокомандующим, решил отправится к войскам в ставку, которая находилась в Могилёве, он спросил министра внутренних дел о недовольствах, на что получилось невнятный ответ: «Всё, вроде бы, спокойно». Было ли это желанием успокоить царя, или эти люди действительно так считали – судить трудно. Я склоняюсь к тому, что министр действительно верил в возможность быстрого наведения порядка. Разумеется, никто не ожидал того, что произошло далее.
23-го февраля по старому стилю, по-новому – 8-го марта, отмечался Международный день трудящихся женщин, и в рабочих кварталах начались демонстрации, соединившиеся с отсутствием хлеба в магазинах бедных районов. Всех очень волновал вопрос о новых продовольственных поставках в Петроград, на фоне чего формировались очень разные предположения, но ясности не было. Женщины часами стояли в очередях, и когда начальники говорили, что хлеб есть, они, в общем-то, были правы: он был, но другой вопрос в том, что цена на него была чудовищно высока.
Далее, стали говорить, что хлеба привезли достаточно, но весь раскупили – люди делали запасы. Утешение было достаточно спорным. Начали возникать версии о том, что кто-то специально задерживал перевозки хлеба, и 23-го февраля начались демонстрации с лозунгом «Хлеба! Хлеба!». К этому очень быстро присоединились «Долой войну!» и «Долой самодержавие!», что было печальной иронией: по-настоящему, самодержавия уже не было, потому что с 1906-го года в России была законодательная дума и парламент, который обладал большими правами, пусть и не такими, как, например, в Великобритании. При этом существовали политические свободы, что уже явно подчёркивало отсутствие самодержавия. Позже политологи назовут такой строй «дуалистической монархией» – власть монарха очень велика, но всё-таки есть какой-то представительный орган. Однако, участники демонстраций не вникали в эти тонкости и шли под лозунгом «Долой самодержавие!».
За несколько следующих дней значительно выросло количество забастовщиков, на улицы вышло всё больше людей, и обстановка с каждый днём всё более накалялась. 25-го февраля город был полностью охвачен забастовками и демонстрациями. Интересно, что только в этот момент разные политические партии решили поддержать недовольных – до этого они просто смотрели на происходящее с некоторым удивлением.
Николай II, который волей судеб оказался далеко от столицы, понял всё не сразу, и только вечером 25-го февраля сообразил, что дела плохи. В 1915-м году, когда император снял с поста верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и поставил на его место себя, очень многие стали возражать и говорить, что с этого момента он понесёт личную ответственность за все поражения русской армии. Тем не менее, Николай II говорил, что в тяжёлые моменты хочет быть со своим воинством, – это понятно и достойно некоторого уважения, но сегодня мы понимаем, что решение было очень непрактичным, потому что царю приходилось разрываться между государственными и военными делами.
В результате, в феврале 17-го года столица была охвачена волнениями, а император находился за много километров от неё и совершенно не понимает ситуации. Отреагировал он только вечером 25-го февраля, прислав командующему петроградским военным округом – генералу Хабалову – телеграмму:
Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией.
Иными словами, Николай приказал немедленно разгромить и разогнать выступающих.
По этому поводу было сказано и написано очень много противоречивого. Барон Будберг, оказавшийся в эмиграции, с большим сожалением написал:
Да, решительный начальник, батальон верных солдат, быстрота действий, и судьба России – да и всего мира – была бы иной.
Александр Исаевич Солженицын в разных произведениях представлял царя как несчастного мученика, который ни в коем случаи не хотел проливать кровь, вспоминая 9-е января 1905-го года, в результате чего и проявил такую слабость. Тем не менее, телеграмма Николая II показывает, что идеи у него были совершенно другие.
Меня поразил Александр Савич, который в размышлениях над февральской революцией с явной скорбью восклицал о том, что не только царь не разогнал протестующих, но и никто другой не бросился к нему на помощь. Иными словами, и Николай не обратился к войскам или жандармерии, и желающих помогать ему не было. Историк заключил: «Не было в нашей стране благословенного Алькасара!». Алькасар – это замок в испанском городе Толедо, в котором находился штаб военных во время Гражданской войны: франкисты, то есть мятежники, в нём укрепились, а республиканцы довольно легкомысленно его осаждали. В результате, когда подошли основные войска мятежников, республиканцы и представители народного фронта были изгнаны или убиты, а сторонники Франко в Алькасаре были освобождены.
Таким образом, Савич хотел сказать, что, если бы демонстрации вовремя разогнали, то не было бы всех последующих ужасов. Странно, что человек, сражавшийся против фашизма, поставил в пример франкистов…
Вечером 25-го февраля царь приказал разогнать демонстрации. Солдат приказом вывели на улицу, однако вышли очень немногое, потому что им совершенно не хотелось разгонять эти толпы. Есть мнение о том, что многих солдат совсем недавно призвали, вот-вот собирались отправить на фронт, но им не хотелось продолжения войны, в результате чего они сочувствовали выступающим на улицах. Тем не менее, солдаты вышли, где-то произошли столкновения и раздавались выстрелы, были убитые и раненные. 26-го февраля появились первые сообщения о том, что солдаты отказывались стрелять в толпу, а когда армия перестаёт поддерживать режим и переходит на сторону народа – это главный залог победы любой революции.
В этот же день, 26-го февраля, председатель государственной думы – октябрист Михаил Родзянко – отправил императору следующую телеграмму:
Всеподданнейше доношу Вашему величеству, что народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и угрожающие размеры. Основы их – недостаток печёного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику, но главным образом – полное недоверие к власти, неспособной вывести страну из тяжёлого положения. На этой почве, несомненно, разовьются события, сдержать которые можно временно ценою пролития крови мирных граждан, но которых при повторении сдержать будет невозможно. Движение может переброситься на железные дороги, и жизнь страны замрёт в самую тяжёлую минуту. Заводы, работающие на оборону в Петрограде, останавливаются за недостатком топлива и сырого материала, рабочие остаются без дела, и голодная безработная толпа вступает на путь анархии, стихийной и неудержимой.
Железнодорожное сообщение по всей России в полном расстройстве. На юге из 63 доменных печей работает только 28, ввиду отсутствия подвоза топлива и необходимого сырья. На Урале из 92 доменных печей остановилось 44, и производство чугуна, уменьшаясь изо дня в день, грозит крупным сокращением производства снарядов. Население, опасаясь неумелых распоряжений властей, не везёт зерновых продуктов на рынок, останавливая этим мельницы, и угроза недостатка муки встаёт во весь рост перед армией и населением. Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно бессильна восстановить нарушенный порядок.
Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор. Война при таких условиях не может быть победоносно окончена, так как брожение распространилось уже на армию и грозит развиться, если безначалию и беспорядку власти не будет положен решительный конец. Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему составить правительство, которому будет доверять всё население. За таким правительством пойдет вся Россия, одушевившись вновь верою в себя и своих руководителей. В этот небывалый по ужасающим последствиям и страшный час иного выхода нет, и медлить невозможно.
Председатель Государственной думы Михаил Родзянко.
В этой телеграмме есть совершенно конкретная просьба – создать новое правительство, которому сможет доверять вся страна. Уже с осени 15-го года, после страшного летнего кризиса, Россия потерпела страшные поражения на фронте, потеряла огромные территории и большое количество людей. Параллельно с этим начался кризис снабжения: армию, не говоря уже о тыле, не могли обеспечить продовольствием, оружием и снарядами. В этот момент политического и военного кризиса 15-го года царь стал главнокомандующим, были приняты многие экономические решения, а оппозиция всё время требовала в думе создания ответственного министерства или министерства народного доверия, несмотря на то, что снимал и назначал министров всё равно царь, советуясь только с царицей и Распутиным, что вызывало огромные возмущения.
В 17-м году Родзянко своим письмом просил императора создать такое министерство, о котором говорили ещё два года назад, увеличив тем самым влияние думы и уменьшив своё. Конечно, из сегодняшнего дня кажется, что это было бы вполне естественным шагом: уже существовала дума и были разные политический партии – следовало пойти дальше по пути превращения в цивилизованную конституционную монархию. Однако, для Николая II это было совершенно неприемлемо. Воспитывал его всё-таки Константин Победоносцев, закладывая ему мысль о том, что самодержавие – это естественный для России строй. Николай считал, что не может растратить наследство, которое он получил от отца и должен будет передать сыну. Поэтому, получив вопль отчаяния от председателя Госдумы, он не пошёл на встречу. К тому же, император никогда не любил Родзянко, потому что тот в своё время выступал против Распутина. Прочитав его письмо, он сказал барона Фредериксу:
Опять этот толстяк Родзянко мне написал всякий вздор, на который я ему даже отвечать не буду.
27-е февраля оказалось переломным моментом, потому что практически весь петроградский гарнизон перешёл на сторону восставших. Генерал Хабалов до последнего пытался что-то сделать, но, когда понял, что осталась какая-то горстка солдат, а вся крепость занята восставшими, он просто распустил остаток гарнизона, осознав всю бессмысленность происходящего.
В этот день в разных частях Петрограда происходили разные события. С одной стороны, в Мариинском дворце собралось правительство, которое в ходе бурных обсуждений отправило царю телеграмму, умоляя его создать ответственное министерство. Никакой реакции, конечно же, не было.
Параллельно с этим сразу несколько событий происходили в Таврическом дворце, где заседала Государственная дума. Николай II приказал распустить эту самую думу, и она распустилась, предварительно избрав из своего состава временный комитет, на основании которого в будущем будет создано временное правительство. Сюда вошли, в первую очередь, кадеты, октябристы и ещё несколько депутатов. После этого временный комитет заявил, что берёт всю ответственность на себя, и взял власть в свои руки.
В это же время в другом помещении дворца левые партии – меньшевики и эсеры – объявили о начале выборов в Петроградский совет – выборный орган, который государством никогда не признавался, но существовал с 1905-го года. Параллельно с хаотичными и бурными выборами эти же партии создали исполнительный комитет Совета, в который вошли уже не только меньшевики и эсеры, но и большевики, которых, конечно, было значительно меньше.
Так, в Таврическом дворце собрались Временный комитет Государственной думы и исполком Совета. Американский историк Ричард Пайпс написал об этом следующее:
Пленарные заседания Совета, первое из которых состоялось 28 февраля, напоминали гигантский сельский сход, как будто заводы и казармы выслали сюда своих большаков. Не было ни распорядка дня, ни процедуры принятия решений: в открытой дискуссии, в которой мог принять участие всякий, кто пожелает, вырабатывалось единодушное решение. Как и сельский сход, Совет на этой стадии напоминал косяк рыб, способный мгновенно изменить направление, повинуясь невидимой команде.
И далее:
Если не считать его интеллигентных ораторов, Совет представлял собой вполне сельское учреждение, втиснутое в самый космополитичный город империи.
Действительно, это военное время. Многие рабочие и солдаты – это вчерашние крестьяне, а рядом с ними – левые интеллигенты, заседающие в исполкоме Совета. Очень интересное и странное сочетание.
В то же время Таврический дворец захлестнула толпа демонстрантов. Ситуация очень быстро стала хаотичной и анархической: толпы солдат, рабочих и вообще непонятно кого постоянно появлялись, вследствие чего заседания проходили под огромным давлением народной стихии, которая сама не понимала, чего хочет. В такой ситуации и члены Временного комитета, и исполком Совета должны были принимать какие-то решения.
В Могилёве в это же время Николай II пригласил к себе генерала Николая Иванова, в преданности которого он был уверен, и поручил ему взять войска и отправится в Петроград. В этом точно не видно мучений совести – только желание навести порядок. Иванов собрал войска, создал отряд из восьмисот Георгиевских кавалеров и отправился в сторону Петрограда.
Ночью на 28-е февраля Временный комитет Государственной думы заявил, что взял власть в свои руки, – так начал формироваться состав Временного правительства. Одним из первых его решений стало назначение харизматичного и очень популярного генерала Лавра Корнилова, который ещё сыграет свою роль в 17-м году, на пост командующего Петроградским военным округом.
На следующий день Николай, осознав всё происходящее, решил поехать в Царское Село. До конца не понятно, чем было вызвано такое решение: сильными переживаниями за семью или желанием оказаться поближе к Петрограду. Самое интересное в том, что незадолго до этого ему предлагали привезти семью в Могилёв, но он отказался, потому что не хотел, чтобы больных корью детей лишний раз как-то тревожили.
В начале марта сформировалось первое Временное правительство, большинство в котором было у либеральных партий – кадетов и октябристов. Несмотря на это, каким-то чудом в него вошёл один социалист – Александр Фёдорович Керенский, которому тоже предстояло большое будущее и ужасный крах.
Николай II отправился в Петроград, но вскоре ему сообщили, что большая часть дороги перекрыта. Сообщение, как выяснилось позже, было ошибочным, но император приказал поехать в объезд. Так, он доехал до Пскова, и на станции «Дно» его поезд остановился.
Между тем, генерал Иванов уже добрался до Царского Села и остановился близ него, чтобы выяснить, что происходило в городе. Конечно, происходил там полный хаос: кто-то ходил под красными знамёнами, кто-то нападал на офицеров, а целые полки маршировали к Таврическому дворцу, чтобы заявить, что принимают власть нового правительства. Генерал Деникин, один из лидеров белого движения, уже в эмиграции вспоминал:
Войска вышли на улицу без офицеров, слились с толпой и восприняли ее психологию. Наряду с частями, смешавшимися с вооруженной толпой и громившими все, что слишком резко напоминало старую власть, наряду с отрядами, оставшимися ей верными и оказавшими сопротивление, к Таврическому дворцу стали подходить войсковые части с командирами и офицерами, с музыкой и знаменами, и по всем правилам старого ритуала приветствовали новую власть в лице председателя Государственной Думы Родзянко.
Позже, когда сам Родзянко оказался в эмиграции, большая часть людей обвиняла его в том, что именно он погубил Россию и Государя. Умер же он через несколько дней после нападения на него группы белых офицеров, которая жестоко избила председателя Госдумы как человека, погубившего Россию, несмотря на то, что было всё-таки хорошо видно, как он пытался остановить кризис и направить его в более цивилизованное русло, чтобы сохранить пусть преобразованную и ограниченную, но монархию. Однако, воспринимали его совершенно по-другому.
Так, генерал Иванов наблюдал за происходящим и понял, что не хочет вмешиваться, хотя многие его открыто подталкивали к столкновению. Через много лет знаменитый националист, очень яркий журналист и писатель Василий Шульгин, широко известный до революции, написал в своих воспоминаниях:
С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю деятельность «великой» русской революции.
Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала в Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было – у всех было одно лицо – животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное…
Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и поэтому еще более злобное бешенство…
Пулеметов!
Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя…
Увы – этот зверь был… его величество русский народ.
Примечательно, что в эти самые дни Шульгин вёл себя совершенно по-другому – он был одним из тех депутатов, которые отправились к Николаю II, чтобы потребовать его отречения. Не совсем понятно, как этот факт сочетается с желанием расстрелять «дикий русский народ».
В это же время поезд Николая остановился под Псковом. Здесь появилось новое лицо – генерал Рузский, которого в будущем многие будут обвинять и клеймить. С одной стороны, есть воспоминания о том, как он вежливо и аккуратно беседовал с царём, а с другой – как он чуть ли не за руки хватал императора, требуя его незамедлительного отречения. Понятно только то, что на Николая в это время оказывалось колоссальное давление.
Интересно, что в это же время Николай II отправил запросы ко всем командующим фронтами с вопросом о том, как ему поступить. От всех командующих, включая князя Николая Николаевича, он получил совет об отречении. Это говорит о том, что, во-первых, они понимали главную суть вопроса: царь спрашивал, поддержат ли они его в борьбе против восставших. Во-вторых, несмотря на личные убеждению, каждому командиру было понятно, что большая часть солдат уже ненадёжна. Это же понял и генерал Иванов, который отвёл своих солдат и не стал пытаться подавить революцию кровью. При этом мы знаем, что ещё в 15-м и 16-м годах родственники царя, великие князья, обращались в нему всё с той же просьбой о создании Ответственного министерства, чтобы сохранить его власть, пусть и идя на уступки. Однако, ничего такого тогда не произошло.
В это время все князья, Государственная дума и князь Рузский предполагали, что царь отречётся в пользу своего сына – царевича Алексея. Сначала Николай так и поступил, но затем понял, что, если власть формально перейдёт сыну, то его сразу же заберут. Конечно, император не хотел оставлять в полной хаоса стране своего долгожданного сына, тяжелобольного мальчика с гемофилией, которому, как предполагалось тогдашней медициной, и жить-то оставалось всего несколько лет.
Так, когда к Николаю прибыли два депутата Государственной думы – националист Шульгин и октябрист Гучков, – они с потрясением услышали, что царь готов подписать отречение, но только за себя и за сына, в пользу брата – великого князя Михаила. Исходя из этого, можно сколько угодно говорить о том, что Николай поставил свои личные интересы выше интересов отечества, однако, нельзя забывать, что он был отцом больного ребёнка и очень его любил.
После этого были долгие рассуждения о том, что царь не имел права отрекаться за своего несовершеннолетнего сына. Но, по-настоящему, он и отрекаться за себя не имел никакого права – это процедура была не прописана ни в каких законах. Всё происходило вне рамок юридического поля. Тем не менее, Николай II отрёкся за себя и за сына в пользу Михаила Александровича Романова.
Окружение царя была шокировано тем, что Шульгин и Гучков прибыли небритыми, взъерошенными и в какой-то грязной одежде. Кто-то из окружения даже подошёл к Гучкову и сказал: «Этот пиджачок-то мы вам припомним!». Всё это было вызвано тем, что в их внешнем виде увидели осознанное неуважение к царю. Однако, Гучков и Шульгин, прибывшие из обезумившего Петрограда, даже не задумывались об этом. Всё это показывает разный взгляд на происходящее тех, кто прибыл из новой жизни Петрограда, и тех, кто всё ещё живёт старыми представлениями о дворцовом этикете, который рушится и исчезает на глазах.
2-го марта Гучков и Шульгин получили отречение царя, вернулись в Петроград, и всем сразу стало понятно, что произошло что-то не то. Гучков зачитал отречение перед народом и воскликнул: «Да здравствует государь Михаил Александрович!». Понятно, что после этого его чуть не линчевали: толпа кинулась на него, обвиняя в предательстве, и даже попыталась арестовать. Спас Гучкова только Родзянко, который был очень больших размеров: он буквально вырвал его, загородил и вывел. Из этого всем сразу же стало ясно, что Михаила Александровича никто не примет.
Так, представители Временного правительства пришли к Михаилу Роману и сообщили ему эту неожиданную новость. Разумеется, для великого князя это было невероятным шоком, потому что уже несколько лет Николай с ним абсолютно не считался из-за того, что Михаил женился за границей на разведённой женщине. В течение нескольких часов, все, кроме Милюкова и Гучкова, отговаривали Михаила Александровича от принятия этого предложения. Он, совершенно ничего не понимающий, вышел с Родзянко в другую комнату, и спросил: «Если я приму это предложение, сможет ли Временное правительство обеспечить мне безопасность?». Далее, получив отрицательный ответ, Михаил сказал, что не будет принимать власть.
Следом Керенский начал кричать о своём потрясении благородством Михаила Александровича, и начинались масштабные перемены. При этом Россия ещё не стала республикой, и до 1-го сентября её политический строй был не определён: предполагалось, что вскоре соберётся Учредительное собрание, которое и определит форму правления. Во всяком случаи, 3-го марта Михаил Александрович отрёкся от престола, и династия Романовых прекратила своё существование.
Уже 8-го марта в Царское Село явился новый командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов, и арестовал царицу. С одной стороны, кто-то вспоминал, что вёл он себя совершенно по-хамски, но с другой – есть версия о том, что этот арест должен был спасти её и других родственников царя от самосуда.
На следующий день приехал Николай, которого объявили, как «полковника Романова» (можно вспомнить, как Людовика XVI во время Французской революции стали называть «гражданином Луи Капетом»). Так, полковник Романов соединился со своей семьёй, и они остались пленниками в Царском Селе.
Вскоре после этих событий старый, нищий и голодный философ Василий Розанов в Сергиевом Посаде в своей последней книге «Апокалипсис нашего времени» написал такие слова:
Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого переселения народов». Там была – эпоха, «два или три века». Здесь – три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом – буквально ничего.
Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 «и такой серьезный», Новгородской губернии, выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой.
И что ему царь сделал, этому «серьезному мужичку».
Вот и Достоевский…
Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир».
Конечно, Розанов всегда был очень желчным, недобрым и нервным, а уж в этот момент его действительно постигло полное ощущение конца света.
Позже, через много лет, во вступлении к «Другим берегам» Владимир Набоков также написал страшные слова:
А может быть, Россия и правда кончилась в 1917 году? Кончились же когда-то Афины и Рим.
Это те слова, которым верить абсолютно не хочется. Тем не менее, Розанов поставил тот вопрос, который действительно волновал и поражал всех как тогда, так и сейчас: за две недели рухнула власть, которая держалась несколько веков и казалась всем абсолютно устойчивой, укоренившейся и определённой древнейшими традициями. До сих пор это вызывает множество споров историков.
В чём они заключаются?
С одной стороны, февральские события очень часто воспринимались, как неожиданное пробуждение стихии: хлеб, голод, «бабий бунт», присоединение солдат и рабочих, параллельная война – и всё, – выброс хаоса. Это хорошо видно во многих воспоминаниях о происходящем. Например, Жорж Морис Палеолог писал:
Около пяти часов, один высокопоставленный сановник, К., сообщает мне, что комитет Думы старается образовать Временное Правительство, но что председатель Думы Родзянко, Гучков, Шульгин и Маклаков совершенно огорошены анархическими действиями армии.
– Не так, – добавляет мой информатор, – представляли они себе Революцию; они надеялись руководить ею, сдержать армию. Теперь войска не признают никаких начальников и распространяют террор по всему городу.
Писали об этом многие, при том, что доводов в пользу этой версии есть очень много. Так, экономика с 16-го года постепенно налаживалась, заводы в том же Петрограде наладили собственную выпечку хлеба и так далее. Да и вообще, по утверждению многих историков, никакого голода не было, потому что был и хлеб, и карточки.
Конечно, это не был голод, сопоставимый с голодом эпохи коллективизации, когда миллионы просто умерли из-за того, что было нечего есть. Однако, люди в 17-м году не знали, что будет дальше, и меряли по своим меркам. Сравнивая с довоенной жизнью, они видели, насколько всё стало плохо. И хлеб можно было достать, но стоя много часов на морозе в огромной очереди, и то не всегда.
При этом дело не только в хлебе, но и в войне, которая унесла миллионы жизней, и люди стали забывать, для чего она вообще нужна. К тому же, царь был страшно непопулярен, как и царица, и Распутин. Последнего особенно не любили: сделал он очень много дурного, но слухи, которые про него ходили, преувеличивали всё это во много раз. Даже его убийство, вызвавшее восторг у многих, осталось безнаказанным: царь не решился наказать тех, кого чествовала вся страна.
Один из самых главных исторических источников – доносы, которые, конечно, очень субъективны, но при этом хорошо показывают ситуацию в стране. Так, учёные, изучив доносы последних лет существования монархии, выяснили, что огромные их количества были на тех, кто оскорблял царя и царицу. Главные претензии исходили из сибирских сёл. Например: крестьянин напился и стал кричать «Царь дурак!». Конечно, Николай II не был гигантом мысли, но интересно, каким образом это доходило до крестьян в глубинке?..
Во времена войны стали появляться слухи о том, что у царицы во дворце стоял телефон, по которому она напрямую связывалась с немцами и выдавала им военные тайны. Основано это было на том, что Александра Фёдоровна была немецкой принцессой, хотя детство её прошло в Англии у бабушки – королевы Виктории. С Николаем они переписывались на английском, но при этом она приняла православие и ощущала себя полностью русским человеком. Однако, объяснять это людям, которые верили в то, что из дворца можно говорить по телефону с Германией, было бесполезно. Конечно, такие слухи показывают полную непопулярность царской семьи.
Также и то, сколько людей требовали создания Ответственного министерства – депутаты, великие князья, военные, революционеры – показывает, насколько это правительство было чуждо остальным людям.
Всё это даёт возможность предположить, что недовольство бесконечно нарастало, появилась искра, и всё началось. Иными словами, происходило всё не в два-три дня, как пишет Розанов, и взрыв возник не на пустом месте, а на фоне глубокого, постоянно нараставшего недовольства.
С другой стороны, на это можно очень многое возразить. Во-первых, можно сказать, что после 1905-го года было достигнуто уже очень многое: появилась Госдума, политические партии и свобода. Конечно, можно добавить, что первую и вторую Думы распускали, а свободы ограничивали. Но при этом они всё-таки были! Кроме того, шло бурное экономическое развитие, и положение, скажем, тех же самых рабочих улучшалось. Шло очень быстрое развитие крестьянства: многие воспользовались столыпинским предложением, вышли из общины, ушли на рынок и стали настоящими хозяевами.
Историк Михаил Абрамович Давыдов, занимающийся историей экономического развития России 20-го века, в одной из работ обратил внимание на то, какое огромное количество сберегательных книжек было у крестьян к началу войны. Получалось, что крестьянин – это уже не какой-то неграмотный и ничего не понимающий человек, бредущий за сохой, а предприниматель со своими накоплениями. На это можно возразить, что у кого-то были накопления, а кто-то оставался в общине, страдал от малоземелья и с ненавистью смотрел на помещиков. Да, это тоже было.
Есть много научных исследование (но и ненаучных дурацких рассуждений) о том, что революция была подготовлена и существовал чей-то заговор. Если откинуть идеи о масонстве и немецко-британской разведке, многие обвинения шли в адрес революционеров, которые, разумеется, были заинтересованы в революции. Но, с другой стороны, только 25-го числа партии опомнились и стали участвовать в том, что происходило.
Некоторые историки считают, что существовал заговор среди военных. Недавно появились публикации историк Сергея Куликова, который считает, что существовал продуманный и разветвлённый заговор, во главе которого стоял Александр Иванович Гучков, лидер октябристов, который принимал отречение у Николая II. Вообще, Гучков был очень интересным человеком, и, наверное, когда-нибудь найдётся новый Дюма, который напишет его биографию. Так, Гучков был из богатой купеческой семьи. Его отец-старообрядец отбил свою будущую жену у её мужа во Франции и привёз в Россию. Он получил блистательное образование на историко-филологическом факультете МГУ, а затем – во многих заграничных университетах, где так и не доучился, потому что в России в 92-м году начался голод, и он бросился на родину, чтобы помогать голодающим. По приезде, Гучков начал активно участвовать в земской жизни и заниматься благотворительностью. Кроме того, его носило по всему миру, и он оказывался на Тибете, на турецких землях, заселённых армянами, в Китае, где участвовал в походе русской армии в 1900-м году для спасения русский дипломатов от китайских повстанцев, участвовал в англо-бурской войне (на стороне буров), и так далее. Есть версия, о том, что он преувеличивал свои приключения в целях рекламы – может быть и так, но, во всяком случаи, выглядит всё это невероятно.
Вскоре началась революция 1905-го, в ходе которой Гучков выдвигался во все Думы, начиная с самой первой, но попал только в третью. В это время он уже возглавлял Союз 17-го октября – партию правых либералов, поддерживающую монархию. Далее, как говорил сам Гучков, в 15-м году произошёл перелом: он был травмирован и отступлением русской армии, и поведением власти. С этого момента началось его отторжение не от монархии, но от царя.
При этом существует версия о том, что ещё в 16-м году он начал готовить заговор. Вот, что пишет Куликов:
Уже 8 марта 1917 г. А.И.Гучков объявил: «Не людьми этот переворот сделан и, поэтому, не людьми может он быть разрушен».
И далее:
В сентябре 1916 года, с одобрения лидеров думской оппозиции, Гучков приступил к технической подготовке государственного переворота, имевшего официальной целью заменить Николая II на наследника-цесаревича Алексея Николаевича, а регентом сделать его дядю, великого князя Михаила Александровича. Гучков образовал и возглавил пятерку, в которую кроме него вошли его ближайшие сотрудники по ЦВПК – товарищ (заместитель) председателя Думы Николай Некрасов, Терещенко, а также менее известные деятели – князь Дмитрий Вяземский и Дмитрий Коссиковский, поддерживавшие связи с военными кругами.
Согласно этой версии, рабочая группа ЦВПК сыграла важнейшую роль в подготовке революции, поддерживала связи с генералами и военными, в результате чего те смогли надавить на Николая.
Таким образом, мнения абсолютно расходятся. Кто-то считает, что это абсолютная стихия, а кто-то – что заговор Гучкова, революционеров или каких-нибудь иностранных разведок. Сейчас судить уже очень тяжело. Мне близка позиция историка Бориса Колоницкого, который считает, что произошло сочетание: были люди, которые хотели повлиять и добиться отречения, но одновременно произошёл стихийный взрыв, и на волю вышли те силы, с которыми никто не сумел совладать.
Думаю, этот вопрос довольно существенен, потому что это не просто исторические споры, а, по сути дела, споры о судьбе нашей страны и о её характере. Что произошло: злой умысел некоторой группы людей, стихийное действо дремавших в народе сил или же что-то подготовленное длительным ходом развития? В зависимости от того, к какой идеи мы примыкаем, у нас формирует свой взгляд на развитие страны и на то, каким образом в ней стоит жить: бояться и ужасаться народа, который показывает своё лицо, или считать его народом, вставшим за свои права? Думаю, что это не только исторический, но и философский вопрос, очень важный для всех нас.