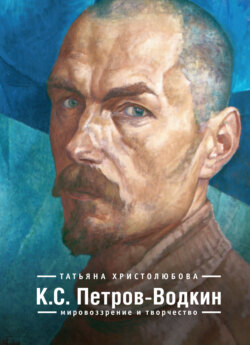Читать книгу К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - - Страница 5
Глава 1
Формирование мировоззрения К. С. Петрова-Водкина
1.4. Особенности теоретико-художественных идей К. С. Петрова-Водкина
ОглавлениеВ течение жизни К. С. Петров-Водкин выступал с докладами и публиковал статьи, посвященные философско-теоретическим проблемам искусства. В них он рассуждал о значении искусства в современном мире, о цвете и форме, о способах взаимоотношения человека с окружающей средой. Мысли и идеи, высказанные К. С. Петровым-Водкиным в ряде его работ нашли свое отражение в созданной им концепции о «науке видеть», содержание которой впервые было частично опубликовано художником с упором на педагогический подход в газете «Дело народа» в 1917 году. Известно, что затем в 1920 году К. С. Петров-Водкин прочел о «науке видеть» доклад на одном из заседаний Вольной Философской Ассоциации в Петрограде, текст которого сохранился в форме черновиков и был опубликован Р. М. Гутиной148.
К. С. Петров-Водкин видел во взаимоотношениях людей и природы серьезный разлад. «Человек знает круглоту земли, ее движение на оси и по окружности центра – солнца, но он никак не ощущает этого: его глаз не видит, ухо не слышит своей планеты»149, – утверждал художник. По его мнению, люди в отличие от животных, разучились без помощи технических приспособлений ощущать страны света и положение солнца, что обусловило «разлад человека с жизнью планетарной»150. Надо сказать, что понятие «планетарности» имело важное значение для художника: все предметы, включая человека, он мыслил испытывающими на себе влияние среды, окружающего пространства. Исходя из концепции «планетарности», К. С. Петров-Водкин строил свои теории о восприятии зрителями художественного произведения, о цвете и форме, о целях и задачах искусства и т. д. Такой подход дал повод С. И. Кулаковой вписать идеи К. С. Петрова-Водкина «в русло мировоззренческих поисков представителей русского космизма»151, таких как Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский и др. Стоит отметить, что К. С. Петров-Водкин, будучи несомненно разносторонне развитой личностью, был знаком с трудами этих ученых, часто опирался на их теории, однако его «планетарность» несмотря на внешнюю семантическую связь с понятиями космоса и космизма, трактуется скорее в узком смысле слова как органическое взаимодействие человека и окружающей его природной среды. Р. М. Гутина справедливо замечает, что «широко применяя термин «планетарность» как художественное понятие, Петров-Водкин ни в одной из своих работ не дает ему непосредственного определения»152. Исследовательница делает вывод о том, что художник рассматривает понятие «планетарность» скорее в пространственном значении, характеризующим связь между солнцем, землей и предметом.
К. С. Петров-Водкин высказывал интуитивное предположение о существовании в дописьменные времена некой огромной человеческой культуры, состоящей в тесной связи с природой. Эти люди, по мнению художника, могли уметь «концентрировать и излучать из себя энергию, непосредственно действующую на предметы и претворяющую по желанию человека предметы-явления»153. По мнению художника, такая энергия могла стать средством общения между людьми, однако утратила свою силу с развитием языка и письменности. Таким образом, слово, по мнению художника, вытеснило из человеческого обихода эту энергию, не являясь ее эквивалентом, иллюстрируя собой как бы форму декоративного искусства, пришедшего на смену искусству, несущему смысл помимо «красивости».
Отличительным признаком произведений искусств словесной эры, по мнению К. С. Петрова-Водкина, является их поэтичность, в силу чего «мерилом их ценности и является только приятность (они нравятся), а не безусловная необходимость»154. Такие произведения искусства, как отмечает художник, «являют лишь позыв к действию, а не само действие, <…> говорят о предмете, не будучи сами предметами»155, порождая декоративное искусство, к которому К. С. Петров-Водкин относился резко отрицательно. Так, он отмечает, что в древние времена повторяющиеся элементы растительной или животной орнаментики имели когда-то заклинательный смысл – «смысл овладения предметом через его изображение»156. Интересно, что в докладе «О живописи», прочитанном им в общине художников в 1926 году, К. С. Петров-Водкин развивал эту тему, рассуждая о желании первобытного человека зафиксировать предмет. По мнению художника, изначальная тенденция изображения заключалась в желании осознать, а следовательно, воспринять, то есть победить данный предмет157. «Побеждать» предмет, по мнению К. С. Петрова-Водкина, следует и современным художникам, для того, чтобы лучше разглядеть и изобразить в нем типические черты.
По мнению К. С. Петрова-Водкина, чем грамотнее становился цивилизованный человек, тем сильнее притуплялись его органы восприятия. И наука, «лишенная полноты воспринимающих органов, связующей человека с миром»158, совершала открытия лишь для удовлетворения любопытства. Здесь можно вспомнить рассуждения А. Белого о том, что современный художник постепенно превращается в ученого, поскольку для того, чтобы творить, он должен сперва знать. А. Белый, в частности, выражал беспокойство тем, что «область искусств технический прогресс приближает все более к области знаний», которая, в свою очередь, разлагает творчество159.
К. С. Петров-Водкин противопоставлял связи человека с природой его взаимодействие с техникой, которое резко осуждал. «Колеса, рычаги, анализы и телеграфы пожирают своих же изобретателей, растерянно метущихся среди вздорных, враждебно скотских общественных отношений»160, – утверждал художник. Здесь можно вспомнить высказывание Н. А. Бердяева о том, что с помощью машины человек пытался овладеть природными стихиями, но вместо этого стал рабом созданной им машины и материальной социальной среды161. «Сознание ослабило в человеке силу инстинкта, сделало его биологически беззащитным. Органы его не изощрились от прогресса цивилизации, а, наоборот, ослабли. Человеку приходится с грустью вспоминать об утерянной первобытной силе»162, – отмечал философ.
Интересно, что К. С. Петров-Водкин, рассуждая о техническом прогрессе, утверждал, что ритм машины выбил художника из его творческого ритма, и тогда «в ход было пущено все сверхреальное в человеке, все контрастное машине, чтобы победить ее»163. Таким образом, становится понятно, что он видел в символизме силу, способную противостоять прогрессу техники. «Выдвигались миражи Метерлинка, доводящие чувство действительно до большого напряжения, но оказалось, что только самый процесс напряжения и захватывал – только толкание в тайную дверь, с обещаниями за ней, а когда посмелее скитальцы взломали эту дверь, – там нашелся склад старых пыльных вещей, негодных к употреблению: театральные светильники, картонные латы, куклы Пьеро и Коломбины – все не настоящее, все притворяющееся, за что не отдашь жизнь свою»164, – заключал К. С. Петров-Водкин. Стоит заметить, это сравнение удивительным образом напоминает цитируемый Д. С. Мережковским рассказ Тацита о том, как во время завоевания Иерусалима Титом Веспассианом римляне в поисках сокровищ проникли в самую отдаленную часть храма Соломонова, куда никто из иудеев не вступал из-за священного страха. Однако они не нашли там ничего, кроме голых стен. «Но если бы один из иудеев, стоявших извне, в ожидании громов и молний, увидел эту пустоту, то не почувствовал ли бы от нее большего ужаса, чем от всех громов и молний Саваофа?»165 – задавал риторический вопрос философ.
Важным аспектом творчества, волновавшим К. С. Петрова-Водкина было взаимоотношение формы и цвета. В докладе «Наука видеть» он отмечал: «Первое впечатление, получаемое глазом от предмета, есть форма»166. Глаз, по мнению К. С. Петрова-Водкина, вначале воспринимает силу напряжения, с которой предмет воздвигся из окружающего. На этом этапе важное информативное значение имеют границы предмета. Затем, по мнению художника, человеческий глаз воспринимает окружающую среду, сопротивляющуюся данному предмету. Воздействующая на предмет среда «делает его индивидуальнейшим явлением, давая ему все несхожести и среди самых родственных явлений»167. Тяготение, также влияющее на предмет, по словам К. С. Петрова-Водкина, сообщает ему осевые показатели. В цвете автор «науки видеть» наблюдает волю предмета, принимающего либо весь луч, либо лишь части спектра. «Цвет показывает зрячесть предмета в отличие от слепых абсолютов: черного и белого»168, – утверждает художник.
Сопоставляя цвет и форму, К. С. Петров-Водкин констатировал: «В форме – в динамической сущности предмета – его борьба за противопоставление себя среде. В цвете же, в солнечной сущности предмета его общение со средой»169. По мысли художника, цвет и форма в повседневной жизни древнего человека были по своему назначению подобны словам. «Да это и были не более как разновидности одной и той же энергии, вбираемой и излучаемой человеком»170, – заключал автор «науки видеть».
Развивая проблему цвета и формы в своем докладе «Живопись как ремесло», прочитанном в 1910 году в частной художественной школе Е. Н. Званцевой, где художник преподавал вплоть до 1917 года, К. С. Петров-Водкин приходит к выводу, что ХХ век совершенно потерял присущие ему цвет и форму, из-за чего «живопись из аскетического, глубокого по своим тайнам знания, ремесла стала дилетантством»171
148
См.: Петров-Водкин К. С. Наука видеть / Публ., предисл. и коммент. Р. М. Гутиной // Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991.
149
Петров-Водкин К. С. Наука видеть. – С. 452.
150
Там же. С. 453.
151
Кулакова С. И. Отражение идей русского космизма на страницах автобиографической повести «Хлыновск» К. С. Петрова-Водкина [Электронный ресурс] // www.radmuseumart.ru/news/index. asp?page_type=1&id_header=3473 (27.03.2011)
152
Гутина Р. М. Проблема традиции в художественной системе К. С. Петрова-Водкина (1910-е годы): Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. иск: (17.00.04) / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразительного искусства. – М.: 1988. – С. 8.
153
Петров-Водкин К. С. Наука видеть / Публ., предисл. и коммент. Р. М. Гутиной // Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991. – С. 452.
154
Там же. С. 455.
155
Там же. С. 455.
156
Там же. С. 455.
157
РГАЛИ, Ф. 3094, оп. 1, ед. хр. 853, Л. 1. Петров-Водкин К. С. О живописи.
158
Петров-Водкин К. С. Наука видеть / Публ., предисл. и коммент. Р. М. Гутиной // Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991. – С. 451.
159
Белый А. Будущее искусство // Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. Л .А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – С. 143.
160
Петров-Водкин К. С. Наука видеть / Публ., предисл. и коммент. Р. М. Гутиной // Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991. – С. 451–452.
161
Бердяев Н. А. Конец Ренессанса и кризис гуманизма // Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев. – М.: 2004. – С. 542.
162
Бердяев Н. А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – С. 57.
163
Петров-Водкин К. Письма об искусстве. Письмо первое // Заветы, 1914, № 5. – С. 2.
164
Петров-Водкин К. Письма об искусстве. Письмо первое // Заветы, 1914, № 5. – С. 2–3.
165
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Подготов. изд. Е. А. Андрущенко – М.: Наука, 2000. – С. 276.
166
Петров-Водкин К. С. Наука видеть / Публ., предисл. и коммент. Р. М. Гутиной // Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991. – С. 460.
167
Там же. С. 460.
168
Там же. С. 461.
169
Там же. С. 462.
170
Там же. С. 463.
171
Петров-Водкин К. С. Живопись как ремесло // Мастера искусства об искусстве / Под ред. А. А. Федорова-Давыдова и Г. А. Недошивина. – М.: Искусство, 1970. – Т. 7 – С. 441.