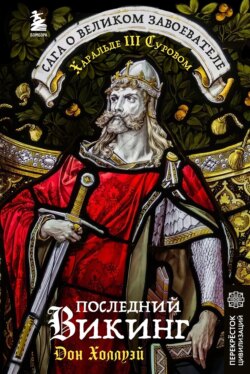Читать книгу Последний викинг. Сага о великом завоевателе Харальде III Суровом - - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
V
Миклагард
ОглавлениеСвежий моросящий дождь гнал
Черные носы боевых кораблей
Вдоль берега, а галеры, несущие щиты, гордо несли и снаряжение.
Прославленный господин в створе судна увидел
Покрытые железом крыши Константинополя;
Много красивых кораблей шли
К высоким городским валам.[15]
Больверк Арнорсон
Кто знает, о чем думал Харальд в августе 1034 года, когда, пройдя пороги нижнего Днепра, пересек Черное море, прошел узкий Босфорский пролив, и его корабль медленно приблизился к легендарному Константинополю? Nova Roma, Новый Рим; Basileuousa, Царица городов; Megalopolis, Великий город. Для русов это был Царьград, Город цезаря, для скандинавов – Миклагард, Большой город – источник легенд об Асгарде, Городе Богов. Это был бриллиант всего христианского мира, стоящий на пересечении континентов и морей, столица новой Римской империи, простиравшаяся от носка «итальянского сапога» до пустынь Святой земли.
Французский священник и летописец Фульхерий Шартрский проезжал Константинополь по дороге в Иерусалим во время Первого крестового похода, который состоялся через несколько десятилетий после того, как туда прибыл Харальд. Он вспоминает:
Какой знатный и красивый город этот Константинополь! Сколько там монастырей и дворцов, отстроенных с удивительным искусством! Какие любопытные предметы находятся на площадях и на улицах! Было бы длинно и утомительно рассказывать в подробностях о том изобилии всякого рода богатств, золота, серебра, различных материй и святых мощей, которые можно найти в городе, куда во всякое время многочисленные корабли приносят всё необходимое для нужд человека.[16]
Французский хронист Одон Дейльский также останавливался в Константинополе во время Второго крестового похода. У Одона сложилось невысокое мнение о византийцах, особенно о византийском императоре, но не об их столице: «Это величие греков – столица, богатая славой и еще богаче истиной».
Их Константинополь был всего лишь тенью того, в который прибыл Харальд. В 1034 году Византийская империя была на пике могущества, какого не достигала со времен правления императора Юстиниана пятьсот лет назад, а ее бьющимся сердцем был Константинополь. Водные пути города были изрезаны кильватерами арабских доу на латинских парусах и фелук, с толстопузыми венецианскими и генуэзскими купцами, и весельных бирем из императорского флота. Над ними на семи холмах ярус за ярусом к небесам поднимались сверкающие дворцы, церкви и башни .[17][18]
Глазом воина Харальд также наверняка заметил тринадцать миль городских стен, утыканных пятьюдесятью бастионами, а также огромную цепь, протянутую поперек устья Золотого Рога (сегодня Халич, его естественный залив), преграждающую вход вражеским судам, – это всё превратило Константинополь в самую неприступную в мире крепость, и на то была веская причина.
Харальд проделал весь путь не один. Около пятисот воинов-русов решили последовать за ним – такова была его слава. (Хотя Рёгнвальд Брусасон, в свою очередь, решил остаться в Киеве, питая надежду на возвращение своего Оркнейского графства и на возвращение в Скандинавию на службе у юного Магнуса.) Для такого количества хватило бы небольшого флота, состоящего из нескольких лодок-долбленок моноксилов или типичных скандинавских галер, достаточно необычных, чтобы привлечь внимание городских часовых. Русы несколько раз за полтора века пытались штурмом взять Константинополь, подгоняя флот до двух тысяч кораблей с восемьюдесятью тысячами человек на борту, поднимая на берег суда, прокатывая их через заградительную цепь на бревнах, чтобы атаковать с верховья реки. И каждый раз планы русов расстраивали городские рвы и трижды укрепленные стены. (Как будет впоследствии ясно, князь Ярослав не отказался от мысли самому захватить Великий город, и поэтому вполне вероятно, что Харальд прибыл как его шпион.) Ни один дозорный, достойный своего звания, не пропустит в город пятьсот иностранных военнослужащих, однако если они останутся на борту пришвартованных кораблей в одной из семи обнесенных стенами гаваней, их предводителю разрешат пройти через ворота на улицы города.
С любого берега полуострова, на котором стоял город, к императорским покоям и местопребыванию руководства страны на самом восточном Первом холме можно было добраться через лабиринт узких улочек с доходными домами, тавернами, стойлами, складами и борделями. «Город скорее грязный и вонючий, и многие места находятся в постоянном мраке, – записал Одон. – Богатые строят свои дома так, что они нависают над улицами, оставляя сырые и мерзкие места путешественникам и беднякам».
На проспектах толпится полмиллиона человек, превышая население Киева в соотношении десять к одному и сливаясь в какофонию из лошадей, верблюдов и козлов, купцов и попрошаек, шлюх и пересудов, актеров и музыкантов, уличных артистов и уличных проповедников и возвышающихся над этим всем в креслах-седанах аристократов – изобилие рас, одежд и наречий из таких далеких краев, как Англия и Испания, Африка и Индия.
Когда гости появились на Месе, Средней улице, прохожих стало меньше. Этот бульвар был более двадцати пяти ярдов (почти 23 м) в ширину и проходил через цепь крытых галерей, образованных колоннадами, магазинами и развалами, на которых торговали всем подряд, от хлеба и сыра, фруктов и рыбы до тканей, металлических изделий и рабов. Просторные общественные форумы в римском стиле служили также и торговыми площадями – форум Феодосия был одновременно и общественной площадью, и свиноводческой бойней. Чистая свежая вода была доступна всем, подавалась постоянно по многокилометровым акведукам и хранилась в подземных резервуарах. Отходы смывались через подземные коллекторы. В городе работали общественные бани и библиотеки, больницы и сиротские дома. По ночам улицы освещали! Этого достаточно, чтобы у скандинава голова пошла кругом от изумления. Харальд приехал в поистине большой город.
Более того, улица Меса, вдоль которой стояли статуи, изображающие императоров и императриц прошлого, была дорогой императорских процессий. Форум Константина, самый большой в городе, мог похвастать еще большей коллекцией скульптур и семисотлетней колонной Константина – настолько древней, что, когда возвели городские стены, она оказалась за городом. Говорили, что в ее основании находятся священные реликвии, включая тесло, которым Ной вырезал свой ковчег, сосуд с миррою, которым Мария Магдалена помазала ступни Христа, и корзины, в которых лежали хлебы и рыба во время Насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. На вершине колонны, поднятая на пятьдесят ярдов (почти 46 м) вверх над цилиндрами из порфира – редкого багряного мрамора, – стояла статуя Константина Великого, основателя города, который был достоин поклонения как христиан, так и язычников. В образе Аполлона (на самом деле это была статуя Аполлона, чью голову заменили на голову Константина) он держал шар, в котором находился кусочек Животворящего Креста.[19]
И на самом деле, в Константинополе было трудно найти место, императорское или нет, без своего собственного алтаря в честь покровительницы города, Богоматери, или церковь, или монастырь без какой-нибудь святыни, доставленной из самого дальнего угла христианского мира. Здесь находился Пояс Пресвятой Богородицы, там – ее платье; пеленки младенца Иисуса и окровавленная повязка, в которой он висел на кресте; терновый венец, копье Лонгина, камень, которым был завален вход в Гроб Господень. Современный читатель может усмехнуться, однако христианство так пронизывало жизнь византийцев, что всё это принималось безо всяких сомнений.
На самом деле если Харальд чему и научился у Олава, а значит, и у Карла Великого, так это использованию единобожия как средства политического объединения, которое в Константинополе было доведено до крайности. Проходящий по Месе к Большому дворцу, будто в церкви, по центральному проходу приближался к алтарю, где объединялись грех, искупление и наказание.
Главный собор города ко времени прибытия Харальда уже стоял там половину тысячелетия. Айя-София была самой большой церковью в мире и останется таковой еще около пятисот лет[20]. Украшенный мрамором разных цветов и verd antique[21], главный купол собора поднимался на 180 футов в высоту и 100 футов в ширину (соответственно 55 и 30 м), и казалось, что он парит в небесах, а не стоит на земле, опираясь на взмывающиеся ввысь узкие колонны и парусные своды, которые были византийской придумкой. Ничего подобного в честь Тора, Одина или Христа в своей жизни Харальд не видел. За пятьдесят лет до этого посланники великого князя Владимира, отца Ярослава, сообщали в Киев: «Не знаем, на земле мы были или на небесах, и совершенно точно нигде в мире нет великолепия или роскоши, подобной той. Не знаем, с чего начать свой рассказ. Мы лишь знаем, что среди греков пребывает Господь и что их службы лучше, чем во всех других землях, и их уже нам не забыть».[22]
И всё же бок о бок с великой святостью существует и великое зло – ипподром в 1300 футов (ок. 396 м) скакового круга, вмещающий сто тысяч человек, где, помимо конных соревнований и забегов на колесницах, калечили, ослепляли и казнили осужденных. Кроме этого, при подавлении Никейского бунта в 532 году императорская армия загнала туда и казнила тридцать тысяч восставших граждан. На ипподроме для императора была своя королевская ложа – кафизма — с личным проходом, ведущим прямо в Большой дворец, чтобы императору не приходилось общаться с простолюдинами. Он должен был оставаться в стороне от остальных, представляя Бога на земле (кем и был император на самом деле).
Гости заходили во дворец через Врата Халки, или Бронзовые ворота, через вестибюль, проложенный между стенами из красного, белого и зеленого мрамора с выложенным замысловатой мозаикой потолком. Стены скрывали райские кущи садов, прудов и террас, в которых были разбросаны частные церкви, павильоны и бассейны, зоопарк и птичник, дворцы с золотыми крышами и бьющий вином фонтан, и даже стадион для игры в циканион — разновидность поло, в которую играли с использованием клюшек с сетками вместо обычных.
Однако Харальд на это взглянул только мельком. Ему необходимо было попасть внутрь. В этой части дворца раньше находились казармы для экскубиторов — «стражей». Первоначально императорская гвардия состояла из знатных византийских вельмож, но после того как их несколько раз уличили в попытке совершить покушения и перевороты, они были низведены до армейской части и расквартированы в отдаленные Фракию и Вифинию – там они не представляли угрозы. Их бывшие казармы, экскубита, теперь служили местом пребывания тех, кто пришел на замену, – тагма тон варангон. Варяжской стражи.
После неудачных попыток захватить Константинополь варяги поняли, что проще заполучить императорское золото другим путем – заработать. Вот уже более века византийцы не вели войны с иностранцами, вместо этого нанимали их, формируя этерию — отряд наемников. (В Древней Греции гетерами называли элитных проституток, однако поставленное во множественное число и мужской род, это слово употреблялось в отношении воинских отрядов.) Варяги служили не только в высококлассных боевых отрядах, но также телохранителями, в большой этерии, которых также называли «варягами города». Будучи зависимой от доброй воли императора, варяжская стража считалась более преданной трону, чем византийские отряды, подверженные переменчивому настроению придворных аристократов. Чуть более ста лет спустя преданность «вооруженных топорами варваров» будет хорошо известна Анне Комнине, византийской принцессе и историку, дочери императора Алексея I Комнина, которая составила «Алексиаду» – обзор правления своего отца, написанный в XII веке. «Что же до варягов, – пишет она, – носящих топоры на плечах, то они рассматривают свою верность императорам и службу по их охране как наследственный долг, как жребий, переходящий от отца к сыну; поэтому они сохраняют верность императору и не будут даже слушать о предательстве».[23]
Однако они были хорошо известны и с другой стороны – пьяными дебошами. Вторя грекам, Снорри называет их vinbelgir — бурдюками. Любого северянина привлекала такая работа, где платят за драку, пьянства и кутежи, и варяг с пятью сотнями воинов в подчинении безусловно заслуживал аудиенции. В страже, вероятно, никогда не состояло более шести тысяч человек одновременно, и лично Харальд мог обеспечить восьмипроцентное увеличение боеспособности отряда. Их командир, аколуф, аколит или сопровождающий, стоял подле императора на всех государственных мероприятиях, всегда был греком, имеющим в своем распоряжении целый штат переводчиков, которые позволяли выслушать молодого скандинава.
У Харальда уже без сомнения был подходящий пример перед глазами – исландца Болли Болласона, который в 1027 году, во времена правления Олава, брата Харальда, совершил путешествие через Норвегию. Олав оценивал Болли как «мужа сильной отваги, – говорится в исландской “Саге о людях из Лососьей долины”. – С его стороны Болли пользовался большим уважением, так как считал, что ему нет равных среди людей».
Болли держал путь в Византию, где присоединился к варяжской страже и быстро продвинулся по иерархии. Всего за три года он сколотил себе состояние и направился обратно в Исландию в 1030 году – в тот год, когда Олав пытался вернуть себе трон. Пересекались их жизненные пути или нет, в любом случае Харальд наверняка слышал о возвращении Болли. В сагах записано:
Он был в мехах, которые подарил ему король Миклагарда, а поверх всего был пурпурный плащ, а за поясом у него был [меч] Фотбит c эфесом, целиком украшенным золотой резьбой, и обвитой золотой нитью рукоятью. На голове у него был золоченый шлем, а на боку красный щит с изображением золотого рыцаря. <…> Везде, где они останавливались, женщины оставляли все свои дела и только смотрели на Болли и его великолепие, и на его сотоварищей.
Хнейтир, меч Олава, также был украшен золотой резьбой, хотя сам Олав никогда не состоял на службе в Византии и, скорее всего, получил этот клинок в подарок или заказал себе подобный.
Как и положено при найме на военную службу, вербовка была организована как коммерческая сделка для обеих сторон. Должности продавались, однако вступительный взнос был высок: чтобы вступить в боевые отряды, требовалось минимум десять фунтов золота, а для вступления в отряд императорских телохранителей необходимо было внести шестнадцать фунтов золота. Чем выше место в иерархии, тем дороже – подняться на ступень выше стоило дороже на один фунт. В большой этерии ежемесячная оплата составляла тридцать четыре номизмы золотыми монетами (по семьдесят два за фунт), а для тех, кто служил в боевом отряде этерии, – сорок. Вдобавок они получали премии на Пасху и по случаю императорских коронаций, к доле от завоеванных в боевых походах трофеев, а также кое-какие налоговые поступления – варяги также выполняли роль императорских сборщиков налогов. Учитывая всё это, рекрут мог вернуть первоначальные инвестиции за год-полтора, если доживет до этого момента.
У Харальда были деньги, чтобы купить себе место, возможно, даже в дворцовой страже. Тем не менее он записался в боевые отряды. Даже если он был шпионом, он не хотел привлекать особого внимания. Согласно «Гнилой коже», он зашел так далеко, что записался под вымышленным именем: «Харальд немедленно поступил на императорскую службу и представился Нордбриктом. Никому не было известно о его королевском происхождении. Напротив, он старался скрывать этот факт, поскольку чужестранцев из числа потомков королей старались не принимать [на высокие должности в страже]».
Скандинавы с топорами в городских стенах
(иллюстрация Джонни Шамэт, © Osprey Publishing)
Норд, разумеется, было отсылкой к северу. Брикт – мужское норвежское имя, означающее «яркий» или «сияющий», а также одна из форм старонорвежского brigd, что означало «ломать» или «преступать», или, по другой версии, «требовать своего права на конфискованную землю». Из этого можно заключить, что Харальд, дабы соблюсти интересы своих новых господ, заявил о разрыве с Севером, но в душе сохранил все свои притязания. Его личность не была особенным секретом и не вызывала у византийцев сильного беспокойства. Начальнику стражи, исландцу по имени Мар Хунродарсон, новоприбывшие показались подозрительными, и он начать вынюхивать информацию у двух земляков-исландцев, двоюродных братьев Болли Болласона, которые были у Харальда помощниками. «Оба были людьми невероятной силы и были превосходными воинами, – говорится в “Саге о Харальде Суровом”, – а также оба были приближены к Харальду».
Ульв Оспакссон, возможно, сражался на стороне брата Харальда Олава в Стикластадире. А Халльдор Сноррасон мог быть тем самым исландцем, которому мы должны быть благодарны за сведения о жизни Харальда и тех временах, поскольку он был предком Снорри Стурлусона и передал своим потомкам множество легенд об этом короле. Однако в тот момент ни один из них не заговорил – по крайней мере с Маром. «Мар хотел поговорить с Харальдом, – сообщается в “Гнилой коже”, – однако Харальд не хотел иметь с ним дел. Мар ничего не добился».
Аколуфу, как и большинству других командиров наемнических армий, было безразлично, кто его рекруты – преступники или короли, главное, чтобы они профессионально владели оружием. Когда же дошло до интриг, Харальд оказался новичком перед лицом всех тайн, заговоров и вероломства императорского двора.
В апреле 1034-го, за несколько месяцев до прибытия Харальда, на византийском троне сменился император, и отнюдь не мирным путем. Предыдущий император Роман III Аргир за пять с половиной лет правления проявил себя и как ничтожный военачальник, и как ничтожный супруг. Катастрофическое поражение от сарацинов в Алеппо оказалось не таким опасным для его здоровья, как неприятие его жены, императрицы Зои, и ее младшей сестры, Феодоры.
Обе были дочерьми предыдущего императора Константина VIII, обе «порфирородными», или «рожденными в порфире» – в родильной комнате Большого дворца с выложенными порфиром стенами, и несмотря на то что обе «императорской крови», на самом деле были полными противоположностями друг другу. Феодора была высокой и стройной, с темными волосами, непривлекательная, но легкая в общении, хоть и скупая. Светловолосая Зоя была с формами и получила известность за свою красоту, более осторожная в словах, нежели ее сестра, умнее и легко тратила деньги. (Евдокию, третью, старшую сестру, девочкой отправили в монастырь, и она никакой роли в истории не сыграла.) Большую часть своей беспечной жизни они вместе были заперты в императорском гинекее — женских покоях дворца – и в конце концов возненавидели друг друга.
Тем не менее события привели их на передовую императорской политической арены. Их отец Константин VIII был последним в македонской династии, основанной два века назад, и отчаянно хотел продолжить свой род. В ноябре 1028 года на смертном ложе он приказал Роману, шестидесятилетнему префекту (мэру) Константинополя, развестись с женой и отправить ее в аббатство, чтобы жениться на одной из своих дочерей. Феодора отказалась, мотивируя тем, что Роман был ее троюродным братом, что в те времена не считалось веским оправданием. Зое тогда было за пятьдесят, и она была известна тщеславием: личные покои превратила буквально в византийскую лабораторию с трубками, жаровнями и мензурками для изготовления особенных мазей и эликсиров красоты. Зоя приняла предложение и немедленно воспользовалась своим обретенным могуществом, под подходящим предлогом отправив Феодору, как и Евдокию, в монастырь. Если Зоя и считала себя королевским трофеем, то вскоре, однако, убедилась в обратном. Замужество с Романом не принесло ей ни детей, ни любви, и вскоре оно стало ей претить.
Между ними стоял карьерист из недостойной семьи Иоанн-орфанотроф (эта должность была учреждена в IV веке и заключалась в управлении императорским сиротским домом, однако ко времени воцарения Романа уже предполагала выполнение функций камергера или премьер-министра) родом из Пафлагонии, расположенной на северном побережье Турции. Михаил Пселл, в то время безвестный молодой придворный секретарь, а впоследствии выдающийся политик и историк, называл Иоанна «человеком низкого и отвратительного происхождения, одаренного исключительно гибким и сообразительным умом». Он всегда искал возможности для продвижения как своего, так и своих младших братьев, Константина, Георгия, Никитаса и особенно самого младшего, привлекательной наружности двадцатичетырехлетнего Михаила, которого он представил императорской чете.
«Не царского он рода и не царский сын, и, судя по его должности, он не принадлежал к именитым сановникам, – сообщает его современник из Армении летописец Аристакес Ластивертци. – Был он незначительным дворцовым служащим».
«Император мельком взглянул на него и из вежливости задал несколько вопросов, отпустив восвояси, но велел оставаться при дворе, – записал Пселл. – Его влияние на Зою, однако, было иного свойства. Его глаза светились молодостью, и она тотчас же стала очарована его обаянием. <…> Зоя не умела равнодушно относиться к молодым мужчинам и не умела владеть своими страстями».
Аристакес же более явно об этом пишет: «Императрицей же овладела похотливая к нему страсть».
Между ними молниеносно завязался бурный роман, и никаких попыток скрыть свою неосмотрительность они не делали. Роман либо вовсе не замечал любовников, либо решил не замечать, что их только раззадоривало. Императрица осыпала Михаила драгоценностями и облачала в шитые золотом одеяния и, как поговаривали, в моменты уединения зашла так далеко, что усаживала его на императорский трон и вручала ему скипетр. Вместе с Иоанном они умудрились назначить его на должность слуги императорской опочивальни – самого приближенного к императору в самые незащищенные минуты. Ни для кого не оказалось сюрпризом, когда вдруг здоровье Романа ухудшилось. Все подозревали императрицу и ее любовника. «Придворные были единогласны в мнении, что сначала они одурманили его и в конечном счете отравили зельем из черемицы [это ядовитая рождественская, или постная, роза], – пишет Пселл. – Не отрицаю, что в какой-то момент, правда это или нет, но я утверждаю, что Зоя и Михаил были причиной его смерти».
Роман умер 11 апреля, внезапно, в своей ванне. «Как только он вошел в золотую ванну с теплой водой, – сообщает Аристакес, – слуги схватили его за волосы и держали под водой до тех пор, пока он не испустил дух. На то у них было распоряжение королевы».[24]
«В комнату вошли несколько человек, включая саму императрицу, без телохранителей и с выражением глубокой печали, – вторит Пселл. – Однако, посмотрев на него, довольная, она отошла, убедившись в его скорой кончине». Вдовой Зоя пробыла недолго. В тот же день она вышла замуж на Михаила, а на следующий день короновала его как императора Михаила IV Пафлагонского. Алексий Студит, патриарх Константинопольский, сначала отказывался благословлять такую узурпацию власти – до тех пор, пока они не пожертвовали церкви пятьдесят фунтов золота.
Когда на голове у Михаила засияла корона, пафлагонцам императрица стала не нужна. Иоанн взял на себя управление государственным аппаратом, раздавая назначения, деньги и прочие милости на свое усмотрение, в частности остальным своим братьям. Он заменил служанок и обслугу на преданных ему и Михаилу доносчиков и запер Зою обратно в гинекее, выпуская лишь по необходимости, для присутствия на государственных мероприятиях. Императрицу избегал даже сам император, и второе замужество Зои было еще хуже первого. «Я не могу ни хвалить, ни порицать Михаила, – отметил Пселл, – его неблагодарности и ненависти к благодетельнице я не одобряю, но понимаю его опасения, как бы царица и его не обрекла злой участи».[25]
Зоя в этом вопросе с ним не боролась, по крайней мере в открытую. Как у женщины, даже как у императрицы у нее не было такой власти. Однако на ее стороне была любовь народа. Более того, Михаил и Иоанн должны были иметь в виду тот факт, что она допоздна сидела в своей опочивальне-лаборатории за приготовлением свежих порций черемичного зелья.
Вот в такое змеиное гнездо ступил Харальд осенью 1034 года. Как только была установлена его добросовестность и все убедились в его достоинствах, кажется, что он всё же получил аудиенцию императора. Для знатных придворных она не означала ничего большего, чем знак вежливости по отношению к посланнику иноземного князя в череде других аудиенций, ожидающих разрешения вопросов, распределения средств, вынесения судебных приговоров и разрешения споров. Для Харальда, однако, она означала его представление и знакомство с наиболее могущественными людьми западного мира.
За семьдесят лет до этого император Константин VII в своей книге «О церемониях» установил правила надлежащего ведения императорских дел – сочетание романского права, греческой культуры и христианской веры. Приемы и аудиенции должны были проводиться в Магнауре, Великом зале, который располагался, если идти через обрамленный колоннами и статуями дворик у ворот Халки, к востоку от Августеона, Великой площади. Трехнефная базилика Великого зала освещалась золотыми канделябрами, подвешенными на посеребренных медных цепях, с персидскими коврами и благоухающими цветами, разбросанными под ногами. Сенаторы, военачальники, патриции и аристократы занимали почетное место, а чужестранцы и остальные ниже рангом, следовавшие за ними, располагались в соответствии с занимаемым положением.
Высокопоставленные чиновники и приближенные из числа придворных располагались ближе к трону, в точности как апостолы вокруг Христа. Дела решали в ритме медленного танца под неторопливые звуки хора на фоне, с различными партнерами, которые сменялись в четком порядке, подражая гармонии и порядку божественного творения, когда всё вращается вокруг центра вселенной.
Император восседал на троне между двумя гигантскими позолоченными львами из бронзы, охраняемый двумя рядами стражников-варягов, блистающих воронеными и позолоченными доспехами и характерным оружием. Как их описывает Пселл, «эти люди были экипированы щитами и ромфеями, однолезвийными мечами из тяжелого железа, которые они носили на правом плече». Ромфея изначально появилась у фракийцев как древковое оружие, но за века видоизменилась. Ко временам Харальда ромфеем обычно называли двуручный меч, который носили на перевязи, однако некоторые историки считают, что более точный перевод с греческого таков: «Целый отряд держал щиты и нес на правых плечах однолезвийные мечи, тяжелое оружие из железа». Другими словами, топоры.
Посреди всех, в центре, сидел император в тунике из белого шелка под императорской багряной накидкой в греческом стиле – хламиде, или даже в лоросе — длинном вышитом церемониальном платье. На его груди был тяжелый, расшитый золотом воротник, инкрустированный драгоценными камнями, а голову венчала императорская корона с драгоценностями с протянутой поверх нитью жемчуга. Михаил IV был всего на несколько лет старше Харальда. «Он был привлекательным молодым человеком, – отдает ему должное Пселл, который лично знал императора, – молодость цвела в нем, он был свеж, как цветок: с блестящими глазами и, по правде говоря, очень розовощекий». Харальд сражался против более внушительных мужчин на поле боя и побеждал, и в бою один на один мог с легкостью прикончить бывшего служащего из семьи менял.
Однако власть императора имела другую природу, этой властью он мог посылать армии за гибелью или за славой, а мужчин отправлять тысячами на смерть – он тоже был своего рода убийцей. Таков был Михаил, если верить придворным слухам, который удерживал голову Романа под водой в дворцовой бане. Вот он, человек, который, совершив убийство, вознесся до уровня Бога.
Доказательство его божественности было здесь же, в тронном зале, поскольку Михаил страдал от «священной болезни», которая поражала старых римских цезарей, – эпилепсии. Он был далек от того, чтобы с гордостью выставлять этот факт напоказ, и старался скрыть это от глаз общественности, как писал Пселл:
Как только Михаил изъявлял желание дать кому-нибудь аудиенцию или провести одну из ежедневных церемоний, доверенные из числа придворных назначались наблюдать и приглядывать за ним. Эти доверенные вывешивали красный занавес по обе стороны от него, и как только он начинал потряхивать головой, или кивать, или проявлялись другие признаки болезни, сразу же просили присутствовавших подождать, задвигали шторы и помогали справиться с приступом без посторонних глаз.
Самым доверенным сторонником Михаила был, разумеется, его старший брат Иоанн. «Иоанн был преданным защитником императора и настоящим братом, – отметил Пселл, – поскольку он никогда не отпускал стражу, ни днем, ни ночью». Ничто не ускользало от взгляда Орфанотрофа – уж точно не грубый северный варвар, вошедший в императорское окружение. «Если кто-то когда-нибудь и был хитер, то это был он. Пронзительный взгляд его был тому подтверждением. <…> Ежедневные дела он устраивал с яростным выражением лица, которое ужасало всех и каждого».
Оказавшись под этим взглядом самого опасного человека, Харальд, должно быть старательно держал мысли при себе, поскольку там наверняка были намешаны и уважение, и жалость, и презрение. Иоанн был как минимум на четыре-пять лет старше Михаила, но выглядел моложе, поскольку, в отличие от своего брата и практически каждого при дворе, не носил бороды. Иоанна оскопили в раннем детстве. Борода у него не росла, и ему не приходилось гладко бриться, что было обычным делом для сановников византийского двора при подготовке к повышению по службе. Кастрация была вопросом государственной политики, направленной на то, чтобы избавить умы евнухов от отвлекающих влечений и любых устремлений наследственного характера. В случае Иоанна это не сработало. Усадив одного из братьев на трон, он продвигал остальных всё выше по карьерной лестнице со всей возможной скоростью, не позволяя ни императорам, ни императрицам вставать у него на пути.
Хотя бы сегодня из клетки выпустили Зою – использованную и отодвинутую в сторону. Следуя церемонии, она занимала назначенное ей место, слегка позади супруга, играя в происходящем лишь декоративную роль. Согласно Пселлу, она воздерживалась от тяжелых драгоценностей и платьев государственных одежд, предпочитая заворачиваться в тонкие шелка:
[Зоя] от природы была полнотела, роста не очень высокого, глаза широко посажены под грозными бровями и носом с еле заметной горбинкой, волосы у нее были золотые, и всё тело сверкало белизной. Прожитые годы не оставили на ней много следов. Тот, кто стал бы любоваться соразмерностью частей ее тела, не зная, на кого смотрит, мог бы счесть ее совсем юной: кожа ее не увяла, но везде была гладкой, натянутой и без единой морщины.
Впервые увидев светловолосую сладострастную императрицу, Харальд, должно быть, хорошо постарался, чтобы отвести взгляд и скрыть свои чувства. Зое пришлось поступить точно так же, когда она впервые увидела молодого, рослого, светловолосого чужеземца, чью преданность открыто можно было купить, – такого редко встретишь при дворе. Сравнивая ее с сестрой, Феодорой, Пселл пишет: «Зоя быстрее схватывала суть дела, но медленнее говорила <…> она была женщиной желаний, одинаково готовая и к жизни, и к смерти».
В истории сохранилось две версии того, как состоялось первое представление Харальда двору, – обе пришли не из первых рук и весьма отличаются друг от друга. Спустя сорок лет после этого события Катакалон Кекавмен зафиксировал, как придворные запомнили его: ничего особенного. Кекавмен считается византийским автором «Стратегикона», руководства по военной и хозяйственной деятельности, почти случайно ставшего источником исторических сведений того времени. «Он [Харальд, которого Кекавмен называл по-гречески Аральтес] вошел, и император принял его согласно протоколу».
Спустя двести лет Снорри записал сведения, которые, предположительно, пересказали Харальд и его варяги: «В те годы греческой империей управляла императрица Зоя Великая и с ней Михаил Каталакт [Меняла – это прозвище они однозначно узнали не от византийцев, которые уважали императора]. Когда Харальд прибыл в Константинополь, то представился императрице и поступил к ней на службу».
Кто же управлял Византией на самом деле, император или императрица, и кому именно служил Харальд? Эти вопросы в конечном счете необходимо прояснить. Сейчас имеет значение лишь одно: Харальд вошел во дворец безработным воином, а вышел императорским солдатом. Это стоило отпраздновать. Константинополь был для северянина необычнее и впечатлял более, нежели колонии Гренландии на другом конце света. Теперь Харальду – Нордбрикту или Аральтесу – предстояло другое приключение – выяснить, были ли местные пивные и бордели столь же великолепны.
15
Это подстрочник. Художественный перевод стиха см. ниже (из: Снорри Стурлусон. Круг земной. М.: Наука, 1980. Издание подготовили: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский, перевод Ю. К. Кузьменко. Сага об Олаве Святом – Круг земной – Королевские саги – Тексты – Северная Слава (norroen.info). (Прим. перев.)
Шли вперед одеты
В сталь – и снасть блистала
Богато – под ветром
Крепким вепри моря.
Узрил златоверхий
Град герой, там стройных
Стругов мимо башен
Череда промчалась.
16
Цитата из «Иерусалимской истории» Фульхерия Шартрского воспроизведена по изданию: История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. III. СПб., 1887; перевод М. М. Стасюлевича. https://www.vostlit.info/Texts/rus3/Fulch/text3.phtml?id=8211. (Прим. перев.)
17
Фелука – небольшое палубное судно с косыми парусами в форме треугольника со срезанным углом, доу – общее название разных арабских судов с латинскими треугольными косыми парусами. (Прим. перев.)
18
Бирема – античный гребной военный корабль с двумя рядами весел, который оснащался тараном. Бирема могла иметь боевую башню и большой блок для разрушения корпуса вражеского корабля. (Прим. перев.)
19
Теслó – плотницкий инструмент, напоминающий топор, но в отличие от него имеющий лезвие, перпендикулярное топорищу. (Прим. перев.)
20
Храм был назван в честь греческой софии, мудрости, а не в честь cвятой Софии Римской и не в честь cвятой мученицы Софии; новгородские и киевские соборы именовались подобным образом. После вторжения оттоманов в 1453 году собор был преобразован в мечеть, а в 1935 году превращен в музей, но в 2020 году ему был возвращен статус мечети.
21
Verd antique – особый сорт зеленого мрамора. (Прим. перев.)
22
В современном переводе «Повести временных лет»: Повесть временных лет (перевод). В год 6522 (1014) (niv.ru) эта цитата выглядит так: «(И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему), и не знали мы – на небе или на земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь жить». (Прим. перев.)
23
Цитата приводится по книге «Алексиада», Анна Комнин (с. 54, 55, кн. 2-я, п. 9, перевод Любарского; в эл. виде https://www.greekmos.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD.pdf. (Прим. перев.)
24
Здесь необходимо отметить, что варяжская стража была знаменита своей верностью трону, и неважно, кто его занимает. В 969 году, когда императора Никифора II Фоку во сне насмерть заколол собственный же племянник Иоанн Цимисхий, в императорскую опочивальню стража подоспела слишком поздно. Обнаружив стоявшего над жертвой окровавленного узурпатора, вместо того чтобы отомстить, они преклонили колени и присягнули на верность убийце как новому императору. Если бы Михаил и даже Зоя пришли к Роману с обнаженными клинками, варяги на полпути их обезвредили бы, однако судить или наказывать уже совершившего свое дело убийцу не было их обязанностью.
25
Цитата из русского перевода «Хронографии» Пселла (можно найти в части Михаил IV, п. VI): https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Psell/hronografija/#0_18. (Прим. перев.)