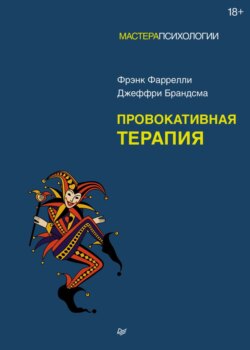Читать книгу Провокативная терапия - - Страница 8
Зарождение провокативной психотерапии
Случай с Рейчел Слейн
ОглавлениеВторой год моей практики проходил в больнице Святой Елизаветы в Вашингтоне, где я начал работать с пациенткой, которую назову Рейчел Слейн. Она прошла все виды лечения, которые только могла предоставить хорошо укомплектованная психиатрическая больница: электрошоковую терапию, терапию инсулиновой комой, рекреационную терапию, трудотерапию, танцевальную терапию, арт-терапию, семейную терапию, планирование выписки и проч., результат был практически нулевым.
Я прочитал её толстенное досье перед первой встречей (оно составило около двух килограммов машинописного текста) и быстро пришёл к выводу, что мне поручили её потому, что, как сказал другой студент, «руководство считает, что мы не можем причинить этим типам никакого вреда, а может, даже принесём пользу». Я побаивался её, так как прочитал, что у неё была дурная привычка время от времени снимать с себя всю одежду. Я помню, как в течение осени и зимних месяцев постоянно опасался, что эта крупная, тучная, смуглая девушка покажет мне стриптиз. Я всегда сидел ближе к двери, чтобы успеть убежать на сестринский пост, если она начнёт обнажаться.
Я встречался с ней в течение семи месяцев два раза в неделю и абсолютно ничего не добился. И вот мне предстояло рассказать о ней на общем собрании сотрудников. Все поздравляли меня с тем, как хорошо я организовал презентацию, сочувствовали мне в связи с отсутствием прогресса, поддерживали и подбадривали, говоря, что «очень тяжело работать с психически больными людьми», и предложили мне начать подготавливать её семью к неблагоприятному прогнозу. Сказать, что я был подавлен, значило не сказать ничего. Руководитель предупредил меня, чтобы я не позволял своему чувству контрпереноса брать верх, и велел мне завершать работу с Рейчел. Два моих сокурсника, которые слышали мои рассказы о Рейчел, посоветовали мне почитать о клиент-центрированной терапии Карла Роджерса. Они (Фрэнк Хьюз и Магнус Сенг) увлечённо изучали её, обсуждали и получали прекрасные результаты с некоторыми пациентами, с которыми работали в то время.
Они сообщили, что с тех пор, как начали использовать клиент-центрированный подход, пациенты стали говорить о гораздо более значимых для себя вещах, заметно больше общаться с другими пациентами в отделении и, кроме того, значительно лучше выполняли задания (например, во время трудотерапии и т. д.). Все эти улучшения также были отмечены рядом сотрудников отделения. Более того, один из пациентов Фрэнка был избран своими соседями по отделению «пациентом месяца» – такое звание присваивалось в каждом отделении пациенту, продемонстрировавшему наиболее заметные улучшения за месяц. Мэг и Фрэнк не отставали от меня: «Читай Роджерса, читай Роджерса», – повторяли они.
Наконец, чтобы отвязаться от них, я согласился прочитать пару глав из их новой «библии».
Я был совершенно не впечатлён прочитанным, подход показался мне ужасно поверхностным и настолько далёким от чёткого евангелия от Фрейда, по которому меня учили, что казалось, будто в нём вообще не было никакой «глубины». Но потом я наткнулся на несколько расшифровок сессий Роджерса, и меня осенило: «Вот так происходит в реальности: предложения не закончены, грамматика неправильная, частые паузы, непонимание и попытки его исправить». Книги Роджерса стали для меня живыми, и перед своим последним разговором с Рейчел я сказал Фрэнку и Магу: «Во время сессии я стану самим Карлом Роджерсом».
Я был полон решимости приложить все усилия, чтобы понять Рейчел: погрузиться в её внутреннюю систему координат, начать с того места, где она находилась, и идти с ней шаг за шагом, пытаясь достичь эмпатического понимания. Я начал беседу и сразу же почувствовал, что что-то изменилось, а когда завершил её через два часа, меня пошатывало, и я подумал тогда: «Что за чёрт?..» Мой взгляд на людей и общение с пациентами и клиентами поменялся коренным образом. Впервые за семь месяцев я начал понимать, как по-настоящему обстоят у неё дела, а не как воспринимаем их мы: персонал больницы, её семья, общество в целом и я. С её точки зрения, её поведение имело смысл. Это был очень пугающий, но захватывающий опыт – попасть в мир другого человека, в тот «уголок вселенной», где она обитала (как я описал это Фрэнку и Мэгу), и взглянуть на людей, места, предметы, чувства, идеи, отношения и всё остальное с её точки зрения. Тогда её поведение приобретало смысл и стало вполне рациональным.
Я никогда больше не предамся исследовательскому азарту тех дней; многое из того, чему я учился, я отбросил; многие лекции и семинары я счёл просто неэффективными или не относящимися к делу. Фрэнк, Мэг и я вели долгие беседы, в ходе которых я начал по-другому интерпретировать ряд знаний, которые получил во время учёбы, и пытался применить их совершенно по-иному. Клиент-центрированная терапия стала для меня новым способом интеграции того, чему меня учили, и новым способом взаимодействия с клиентами. Мои встречи с Рейчел больше не вызывали во мне ужас – теперь я ждал их с нетерпением. Я отчётливо помню, как после последнего разговора с Рейчел не давал моей бедной жене Джун уснуть до 2:30 ночи, возбуждённо рассказывая ей о том, как я переосмысливал всё, чему меня учили до тех пор, и только когда понял, что она заснула, перестал говорить. Я был несколько обижен, но понимал, что, как бы она ни старалась, она не могла в полной мере разделить моё волнение по поводу моего «открытия».
Через две недели и шесть сессий медсестра отделения получила сообщение от арт-терапевта (Рейчел теперь занималась только арт-терапией) с вопросом, не происходит ли в жизни её пациентки «чего-нибудь нового» – в тот момент она начала рисовать совершенно другие картины на занятиях по арт-терапии. Медсестра ответила, что не знает, но и в палате пациентка вела себя совершенно иначе: она гораздо тщательнее следила за своим внешним видом (раньше она носила гротескный макияж), вдруг предложила убираться в палате, её не нужно было вытаскивать утром из постели, теперь она вставала вместе с остальными пациентами, самостоятельно посещала синагогу и вообще стала гораздо менее замкнутой и более общительной. Словом, её преображение выглядело как «воскрешение». Затем медсестра позвонила мне и спросила, появилось ли что-то новое в наших беседах. Я с энтузиазмом рассказал ей о «новом я и новой Рейчел».
Случай Рейчел Слейн стал одним из самых значимых клинических случаев в моей профессиональной карьере. Оглядываясь на него спустя почти полтора десятилетия, я задаюсь вопросом, извлекаю ли я из своего опыта его истинный смысл или приписываю ему тот смысл, который нужен мне в данную минуту. Но, размышляя над своим опытом, я думаю: нет, так всё и было на самом деле – вот что значили для меня эти переживания в то время, и уроки, которые я извлёк тогда, актуальны для меня и сегодня.
Первым и определённо ошеломляющим было осознание того, что опытные, высококвалифицированные, умные, признанные в обществе «эксперты» могут ошибаться, а я, неопытный, ещё не до конца подготовленный и несколько растерянный студент, могу быть прав. Я также понял, что повторение одних и тех же терапевтических процедур с пациентом может привести к повторению одних и тех же ошибок и, следовательно, такие процедуры оказываются неэффективными. Кроме того, я осознал, что если пациент не меняется, то дело не обязательно в нём самом (например, в его бессознательном сопротивлении), а вполне возможно, что виновата терапия, которой чего-то недостаёт. Мне также вдруг стало ясно, что независимо от того, как долго сознание пациента было нарушено, и от степени тяжести его состояния, он может измениться – причём радикально, и эту перемену будет легко увидеть, если будут созданы специальные условия. Я также чувствовал, что был щедро вознаграждён за то, что экспериментировал, и в дальнейшей работе я взял за правило всякий раз разрабатывать иной подход, если пациент не откликается на тот подход, который я первоначально использовал. Покойный Джон Паласиос, который в то время был моим руководителем, независимо от того, хотел он этого или нет, подкрепил мою мысль о том, что, хотя вы не всегда обязаны быть правым или эффективным, вы можете таким стать. Он рассказал о случае, когда одна молодая аспирантка представила на обсуждение сотрудников больницы случай старого пациента-мужчины в хроническом состоянии, с которым работала. Общее мнение специалистов было таково: прекратить работу с пациентом, так как он никогда не поправится. Студентка была возмущена и расстроена и откровенно рассказала об этом пациенту, плача при этом. Пациент был настолько поражён, что кто-то беспокоится о нём, кто-то плачет о нём и ведёт себя с ним так прямодушно, что утешил студентку и пообещал, что уйдёт из больницы и больше никогда не вернётся. Он выписался, устроился на работу и не вернулся в больницу! Очевидно, что здесь, как и в моём случае с Рейчел, действовала странная логика: студентка всё делала «неправильно», и это оказалось эффективным; когда я вошёл в мир Рейчел, она начала выходить в реальный мир.
Очень трудно выразить на бумаге моё волнение и ощущение, что я совершил открытие. Я чувствовал, будто освободился, ощущал почти пугающий прилив энергии (я смог быстро завершить работу над диссертацией и другими работами в рамках своего курса), и мне казалось, что всё встаёт на свои места. Смысл всего происшедшего со мной в тот период, пожалуй, лучше всего выражается в строке из письма, которое я тогда написал Карлу Роджерсу: «Я чувствую, будто стою по колено в бриллиантах».
Я жаждал получить больше клинического опыта и особенно поработать с пациентами в психиатрических больницах. Ранее я упорно избегал работы в психиатрической больнице, где провёл второй год своей практики. Теперь же я имел дело с «самыми больными из больных», как я тогда говорил Мэгу и Фрэнку. В результате я выбрал место в Государственной психиатрической больнице Мендоты в Мэдисоне, штат Висконсин, по целому ряду причин: чтобы быть ближе к своей семье, живущей на Среднем Западе, лечить госпитализированных психических больных и работать в тесном контакте с Карлом Роджерсом и его командой, которая в то время занималась в Мендоте большим исследовательским проектом.
Погружение в контекст психиатрической больницы и работа с группой коллег-профессионалов, вероятно, были во многом решающими для меня. Особенно полезным, в частности, стало прослушивание терапевтических сессий. На этих сессиях, проводившихся раз в неделю с 1958 по 1960 год, мы, практикующие врачи-психотерапевты, прокручивали друг другу свои сессии, записанные на плёнку. Благодаря им я понял, как по-разному чувствуют себя клиенты, как по-разному психотерапевты реагируют на них (хотя и в рамках клиент-центрированного подхода), но главное – я получал постоянную обратную связь касательно моей профессиональной работы. Я понял, что открыто демонстрировать результаты своей работы – значит сносить удары пращей и стрел[3], но в то же время открыть для себя неисчерпаемый источник профессионального развития.
3
Слова из солилоквия Гамлета «Быть или не быть, вот в чём вопрос…»: Что благородней: / Сносить с терпением в душе удары / Пращей и стрел судьбы несправедливой или / Вооружиться против моря бедствий / И побороться с ними? – Примеч. ред.