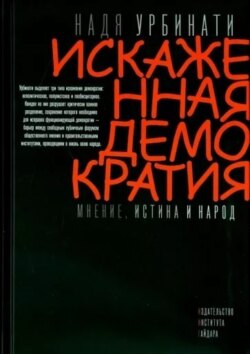Читать книгу Искаженная демократия. Мнение, истина и народ - - Страница 20
Глава 1. Диархия демократии
Распределение и концентрация
ОглавлениеОбщество является демократическим, когда люди, считая неравенство препятствием для своей свободы, организуют правовую и институциональную систему так, чтобы преодолеть его, «когда всем членам сообщества она предоставляет право свободно и в полной мере участвовать в политике, голосовать, собираться, получать информацию, высказывать несогласие, не боясь преследования, и занимать политические посты самых высоких уровней»[197]. Следовательно, для правления посредством мнения требуются дополнительные усилия, необходимые чтобы поставить граждан в условия простого доступа к информации и средствам коммуникации, а также для развития умственных привычек к критике, которые приучают их внимательно относиться к общественно значимым событиям и не слишком доверять широко распространенным мнениям, что позволит им сохранить свою негативную власть контроля над устоявшимися убеждениями, институтами и государственными чиновниками. Усилия правительства, следовательно, направлены на две цели – защиту равных прав как условия плюрализма и противодействие концентрации власти. Ориентируясь на схожую линию мысли, либеральные авторы начиная с XIX века полагали необходимым укреплять негативную роль свободы слова, представляя ее щитом от тирании нового типа, тирании мнения большинства. Они с подозрением относились к наделению государства положительной ролью по защите равных условий публичного диалога, поскольку источник этой новой вездесущей власти они усматривали в демократическом государстве с его естественной склонностью к единообразию идей, позволяющему формировать большинство.
Как уже было сказано, либеральная традиция, заложенная Миллем и несколькими поколениями американских судей, юристов и теоретиков, интерпретировала текст Первой поправки в соответствии с политической ценностью «рынка идей» и связанной с нею моделью свободы слова как «крепости», которую государство охраняет, не вторгаясь в нее. Соответственно, как заметил Ли К. Боллинджер, сохранение этого права требует иных техник, которые «выходят за пределы конструирования правовой власти, считавшейся неизменной» и которые позволят работать с проблемами, поставленными перед свободой слова частными деньгами в политике и медиа-коммуникации[198]. Однако роль рынка в медиатехнологии и частных денег в скупке телевизионных станций, в обеспечении средствами информации и спонсировании избирательных кампаний – все это опасные вызовы, брошенные либеральной парадигме невмешательства. Фактически, поскольку перед современными демократическими обществами стоят проблемы концентрации власти, необходимо вмешательство государства ради уравновешивания власти, позволившего бы эффективнее охранять основное право на свободу слова[199]. Концентрация медиа [в руках немногих], как и любая иная форма концентрации власти, – это угроза демократии, поскольку она является угрозой равной свободе[200]. Следовательно, сопротивление деградации политической свободы – это либеральная задача.
Уже в 1947 году в «Докладе комиссии Хатчинсона» было указано на внутреннюю связь между концентрацией власти и «сокращением доли людей, которые могут выражать свои мнения и идеи в прессе». В конце доклада заявлялось, что концентрация вредит демократии и угрожает свободе прессы[201]. Интерпретации этого феномена расходятся. В последнее время американские исследователи общественного мнения отказались от доводов против концентрации собственности, посчитав, что в силу фрагментации информации и коммуникации, обеспечиваемой интернетом, это больше не проблема[202]. Более того, нет согласия и относительно средств сдерживания угрозы концентрации (не все согласны с тем, что для сокращения или ограничения концентрации в сфере медиа следует использовать непосредственно закон)[203]. Однако факт состоит в том, что в устоявшихся демократиях наблюдается концентрация (при том что в разных государствах могут быть разные антимонопольные законы в сфере телевидения; некоторые чувствительнее других к этой растущей силе) и что она может стать местом новой формы «косвенного деспотизма», если использовать остроумное выражение, придуманное Кондорсе в 1789 году.
Некоторые исследователи ставили под вопрос доводы защиты многообразия, указав на то, что невозможно сказать, сколько именно разных взглядов необходимо для того, чтобы общество считалось плюралистическим[204]. Однако такая консьюмеристская точка зрения является ущербной, поскольку рассредоточение власти обосновывается не содержательно, а процедурно. Как было отмечено Бэйкером, с точки зрения [информационного] содержания «положительный вклад рассредоточения собственности – или, говоря в целом, разнообразия источников разных типов – должен зависеть от эмпирического предсказания, что подобное рассредоточение даст аудитории большой выбор (желательного) содержания и точек зрения»[205]. Но эмпирически невозможно доказать, действительно ли рассредоточение приведет к такому содержанию. Это возможно, но не обязательно. Однако проблема, как я доказываю в этой и следующей главе, не в результате (или вмешательстве в информационное наполнение (content)), а в демократических нормах и процедурах.
Демократия не требует того, чтобы «ораторы предоставляли, а слушатели выбирали максимальное (или близкое к тому) разнообразие на рынке информационного контента. С другой стороны, отсутствие разнообразия содержания или точек зрения, которое отражает независимые, но сходящиеся друг с другом точки зрения множества разных людей… фундаментально отличается от такого же отсутствия, навязанного несколькими могущественными авторами». Эта проблема является чисто процедурной, поскольку разнообразие источников – это «процессуальная ценность», а не содержательная или «товарная ценность»[206]. Опора на нормативную трактовку демократического процедурализма позволяет нам последовательнее отстаивать курс, направленный против концентрации в области формирования мнения. Действительно, совершенно верно то, что лучше увидеть значение этой проблемы нам позволяет не перфекционистское представление о демократии, а позиция, строго обоснованная понятием демократии, которое Боббио определял через «правила игры» (democrazia delle regole del gioco).
197
Winters J. A. Oligarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 4.
198
Bollinger L. C. The Tolerant Society. Oxford: Oxford University Press 1986. P. 215–218.
199
О нарастании концентрации в американских медиа см. первое и второе издание работы: Bagdikian B. H. The Media Monopoly. Boston: Beacon Press, 1983, 2004. Сравнительный анализ ситуации в Европе см. в: Humphreys P. J. Mass Media and Media Policy in Western Europe. New York: Manchester University Press, 1996; а также весьма информативное исследование Hallin D. l C., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. New York: Cambridge University Press, 2004.
200
Bagdikian. Media Monopoly. 2004. P. 3.
201
Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press: A General Report on Mass Communication. Chicago: University of Chicago Press, 1947. P. 1, 5, 17, 37–44, 83–86.
202
Shapiro R. Y., Jacobs L. R. The Democratic Paradox: The Waning of Popular Sovereignty and the Pathologies of American Politics // Oxford Handbook of the American Public Opinion and the Media / L. R. Jacobs, R. Y. Shapiro (eds). Oxford Handbooks Online: September 2011. Однако этот аргумент представляется слабым или неполным, поскольку свобода интернета сама является предметом спора и одновременно политическим вопросом. Господство частных компаний в области программного и аппаратного обеспечения, а также в интернет-сервисах, дает этим компаниям и правительству огромное преимущество в сфере слежения и контроля, не являясь при этом признаком распределения власти. См.: Morozov E. The Dark Side of Internet Freedom: The Net Delusion. New York: Public Affairs, 2011. P. 236.
203
См., например: Chafee Z. Jr. Government and Mass Communication: A Report from the Commission on Freedom of the Press. Chicago: University of Chicago Press, 1947. Vol. 2. P. 647–677; и Baker C. E. Advertising and a Democratic Press. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P. 15–20.
204
Как писал Стейнер несколько десятилетий назад, при особых обстоятельствах монополия может дать даже более разнообразное освещение событий или точек зрения – именно потому, что она желает обыграть всех возможных конкурентов. Steiner P. O. Program Patterns and Preferences, and the Workability of Competition in Radio Broadcasting // Quarterly Journal of Economics. 1952. Vol. 66. P. 194–195.
205
Baker. Media Concentration and Democracy. P. 15. О влиянии медиа на качество дискуссии см. в том числе: Barber B. The New Telecommunications Technology: Endless Frontier or the End of Democracy? // Constellations. 1997. Vol. 4. No. 2. P. 208–238; в том же номере см.: Buchstein H. Bytes the Bite: The Internet and Deliberative Democracy. P. 248–263.
206
Baker. Media Concentration and Democracy. P. 16.