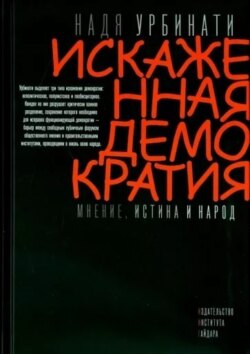Читать книгу Искаженная демократия. Мнение, истина и народ - - Страница 6
Глава 1. Диархия демократии
Что такое демократическая диархия?
ОглавлениеДиархия воли и мнения относится, в частности, к представительной демократии, системе, в которой собрание выборных представителей, а не сами граждане, наделяется обычной функцией законотворчества. Парламент, являющийся ключевым институтом выборной демократии, предполагает и поддерживает постоянное отношение с гражданами – как частными лицами, так и политическими группами или движениями, а мнения – это средство, благодаря которому это отношение развивается. Теоретическое представление современной демократии как диархии приводит к двум тезисам: во-первых, «воля» и «мнение» – это две власти демократического суверена, а во-вторых, они отличаются друг от друга и должны оставаться отличными, хотя им и нужна постоянная коммуникация. Используемая мной терминология является переложением языка суверенитета, который в его современной кодификации описывал власть государства как «волю», позволяющую принимать правомочные решения, в равной мере обязывающие всех подданных. С точки зрения Жана Бодена, Томаса Гоббса, Жана-Жака Руссо и теоретиков конституционного правления XIX и начала XX веков, «воля» означает процедуры, правила и институты, то есть нормализованную систему публичного поведения, которая порождает и исполняет закон.
Однако классическая теория суверенитета, которая была создана до того, как началось развитие представительной демократии, не рассматривала суждение или мнение подданных в качестве функции суверена[53]. Тогда как демократия, особенно если она осуществляется посредством выборов, не может игнорировать то, что граждане думают или говорят, когда действуют в качестве политических акторов, а не избирателей. Следовательно, в представительной демократии суверен – это не просто уполномоченная воля, заключенная в гражданском праве и осуществляемая государственными должностными лицами и институтами, но, по сути, двойственная сущность, в которой одним компонентом является решение, а другим – мнение тех, кто подчиняется и лишь косвенно участвует в правлении. Мнение причастно суверенитету, хотя у него нет никакой правомочной власти; его сила является внешней для институтов, а его авторитет – неформальным (поскольку оно не переводится напрямую в закон и не наделено признаками обязательности). Представительная демократическая система – «та, в которой высшая власть (высшая потому, что только она одна имеет право использовать силу в качестве последнего средства) исполняется во имя и от имени народа благодаря процедурам выборов»[54].
Мне важно с самого начала прояснить, что я использую слова «мнение» и «политическое суждение» в качестве синонимов. Как мы увидим в следующей главе, существуют разные виды суждений, и не все они относятся к области законотворчества. Суждение судов отличается от суждения граждан, прессы и представителей. Аристотелевская идея политики, формулируемая в его «Риторике», лучше всего подходит для того, чтобы схватить специфику политического суждения (и делиберативного дискурса) как мнения, которое производится на публичном форуме равными гражданами и которое в отличие от научного суждения и судебного приговора не нацелено на умозаключение, каковое можно было бы оценить как истинное или ложное. Если в нескольких словах попытаться заранее изложить то, что я буду развивать в следующей главе, нам важно отличать политическое суждение от других родов суждения, если мы желаем понять – политическое обсуждение состоит, собственно говоря, в том, что граждане формируют мнения относительно порядка действий, которого им стоит придерживаться или от которого, напротив, надо отказаться. Свободные граждане выдвигают политическое суждение с целью убедить друг друга принять решение по определенному вопросу, который относится к их будущему и обладает лишь правдоподобным или вероятностным характером.
С политическим суждением возникает не только согласие, но и разногласие; это процесс коллективного обсуждения, который нуждается в правовом и процедурном порядке, чтобы люди заранее знали, что они могут публично и безопасно изменить свое мнение. Вполне предсказуемыми оказываются интегративные и коммуникативные следствия политического суждения. В самом деле, граждане демократии используют все информационные и коммуникационные средства, доступные им, чтобы заявить о своем присутствии, выступить за или против определенного предложения и следить за власть имущими, причем они знают, что все это не менее ценно, чем процедуры и институты, производящие решения. Этот обширный круг действий в политической жизни демократического гражданского общества я отношу к категории политического суждения или мнения. Проблема, поджидающая представительную демократию, состоит в том, что, хотя «волю» и «суждение» нельзя по-настоящему отделить друг от друга, они должны работать раздельно, быть и оставаться различными. Конечно, здесь мы говорим о нормативном разделении: мы не хотим, чтобы мнение большинства стало тождественным «воле» суверена или чтобы наши мнения интерпретировались в качестве пассивных реакций на спектакль, поставленный на сцене нашими лидерами. Поскольку представительная демократия является правлением посредством мнения, публичный форум держит государственную власть под присмотром, сохраняя ее публичность, поскольку, с одной стороны, закон требует того, чтобы она отправлялась на глазах у народа, а с другой – потому что она никому не принадлежит (в соответствии с выборным назначением, постулирующим то, что политическая власть не относится к тому или иному роду владений). Критерий, вытекающий из парадигмы диархии, которой я буду пользоваться в этой главе, звучит так: к публичному форуму, поскольку он представляется двойственной властью, следует подходить с позиции «той самой эгалитарной ценности, что воплощена в равном праве людей на самоуправление»[55].
53
Жан Боден и Роберт Филмер строго разделяли законодательный акт и обсуждение, которое ему предшествовало; первый состоял исключительно в суверенном акте обнародования закона; второе проводилось «советниками», чье мнение или суждение король мог выслушать или проигнорировать. См.: Bodin J. On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth / J. Franklin (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 23; Filmer R. Patriarcha // Patriarcha and Other Essays / J. P. Sommerville (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 47.
54
Bobbio N. The Future of Democracy / R. Griffin (trans.), R. Bellamy (ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P. 93.
55
Baker. Media Concentration and Democracy. P. 7.