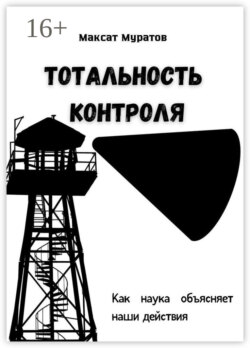Читать книгу Тотальность контроля. Как наука объясняет наши действия - - Страница 8
РАЗДЕЛ I Введение
Глава 1
Этап субъективного осознания
ОглавлениеВсе группы, все общества, все народы, все культуры, всякая экономика состоят из людей. Именно мы их создаём, мы являемся их носителями. Вместе с тем, люди уже обладают определённой культурой и индивид не может самостоятельно установить рамки экономических действий. Социальная реальность одновременно зависима от нас, проблема заключается в том, что и мы от неё.
Мы уже писали, что для того, чтобы сформировалось наше социальное действие необходимы определенные объективные условия, в которых оно будет происходить. Мы смогли описать механизм, благодаря которому формируются наши социальные действия. На конкретных примерах мы увидели, что на нас, в качестве субъектов действия, влияет множество социальных фактов, устанавливающие границы нашего действия, побуждающие нас к социальным практикам. Однако до сих пор оставался неясным вопрос касаемо того, какова роль субъектов в социальном действии. Когда мы разбирали структуру социального действия Толкотта Парсонса и Пьера Бурдье, мы указывали, что в их теориях самый большой недостаток заключается в том, что неясна роль самих людей в процессе их социальных действий.
Многие учёные из области социальных наук грешат тем, что пытаются исключить человека из его взаимоотношений. К примеру, продолжатель парадигмы структурного функционализма Николас Луман, при рассмотрении устройства социальной системы и коммуникаций в этой системе указывал, что необходимо исключить человека из неё. Однако если мы хотим правильно и всесторонне рассмотреть социальное действие, то исключив человека из его потока, мы не сможем объяснить, как образуется наша производственная деятельность, как появляются и внедряются инновации, какова роль личности в истории, почему мы следуем советам некоторым людей, а других ненавидим. При такой радикализации ситуации мы упускаем творческую практику людей, которая не раз в истории показывала, что она важна. Безусловно, каждый человек действует в определённых социальных условиях и взаимодействует с другими людьми, которые выступают по отношению к нему в качестве внешних авторов. Однако всегда имеется определённое поле альтернативных выборов, всегда имеется определённая степень сознательности или бессознательности наших действий.
Вспомним 1789 год. Ситуация во Французской Империи была ужасна. Большинство населения находилось в угнетенном состоянии, а властвующая элита не обращала на них никакого внимания. Накапливающиеся на протяжении многих веков противоречия французского общества в конечном итоге привели к высокой напряженности внутри государства. Большая часть населения и новое третье сословие в лице предпринимателей и банкиров не могло удовлетвориться эгоистической политикой наследствующей кучки элит, которая на протяжении десятилетий вела страну к упадку. Как видно на примере Великой французской революции, перед тем как народ проявил свою творческую сущность в виде революционных преобразований, существовали определённые социальные условия. Однако само их существование ещё не обеспечивает того, что Французская Революция обязательно произошла в этот год и в той форме, которую она приобрела в дальнейшем. В этом случае остаётся поле субъективного творчества массы. К примеру, вполне существовала вероятность того, что крестьяне бы поддержали императора в силу своих многовековых традиций. В этом случае третье сословие не смогло бы получить поддержку для революционных преобразований (к примеру, если бы императорский двор обладал теми средствами пропаганды, что мы видим сегодня) и Франция погрязла бы в еще большем кризисе. Отрицаем ли мы необходимость и историческую причинность Великой французской революции? Нет. Но мы отрицаем её метафизическую трактовку в качестве того, что план действий и исход этой революции были предопределены заранее.
Любой профессиональный историк скажет вам, что исторические процессы имеют свои закономерности и тенденции. Однако они происходят не только под действием этих естественных закономерностей, но и путём созидательной деятельности действующей массы людей. К примеру, если исходить из марксистской трактовки французской революции, которая сильно распространилась в последнее время, то Великая французская революция является очевидным следствием развития капиталистической формации. Безусловно мы не можем это отрицать, потому как видно, что после данной революции, буржуазия смогла нарастить темп своего развития. Однако конкретные действия, которые предпринимались аристократией в лице буржуа нельзя определить исключительно историческими закономерностями. Однако можно понять логику их решений. Для примера, не во всех капиталистических государствах существовала судейская аристократия, которая сложилась во Франции, с возможностью опротестовать любое решение правительства. Кроме того, как указывают историки Дмитрий Бовыкин и Александр Чудинов, на пути Франции к её революции было множество решений различных личностей и органов, которые ускорили её приближение.
Из приведённого выше примера можно сделать вывод, что социальные действия следуют логике развития в рамках данных им социальных условий и социальных характеристик окружения субъекта. Однако сам субъект может отказаться от выполнения социального действия, поступить рационально или иррационально, действовать в соответствии с нормами или стремиться изменить их.
Чаще всего, в повседневной жизни мы не пытаемся осознать и просчитать последствия наших действий. Мы действуем так, как действуем обычно, по привычке. То есть, наши действия не являются рефлексивными. Мы имеем определённые шаблоны поведения, которые повторяли из раза в раз со времён нашей социализации в обществе, и поэтому они считаются для нас наиболее адекватными и универсальными действиями. Поэтому, когда мы тянем руку другому человеку, для того чтобы поздороваться, мы не раздумываем долго о том, почему я это делаю, как на это влияет социальная система и структура и т. д. Мы уже заранее разделяем общее положение и ожидания в наших действиях. В таком случае мы действуем нерефлексивно истинно. Мы решаем пожать руку другому человеку, не потому что считаем это правильным или ложным, а просто по той причине, что так делают все, так делать принято, я так всегда делал. Такие действия мы будем называть «нерефлексивными».
Неефлексивные действия мы можем сравнить со стремлением соответствовать самим себе в нашей повседневности. Те шаблоны действия, о которых мы не задумываемся и не подвергаем сомнению, являются частью нашей личности, упрощают наше существование в социальной жизни, помогают нам ориентироваться в пространстве. Если человек действует шаблон, по привычке, это не означает, что он не имеет своего мнения или у него нет своей личности. Наоборот, это означает, что он является членом общества, прошедшим этап социализации и сформированным с определёнными ценностями и нормами. Момент, когда необходимо предпринимать какое-либо социальное действие, то есть когда инициализирующее событие является обязывающим, мы поступаем чаще всего так, как поступали обычно, основываясь на своём опыте, социальном характер, социальной группе. Многие социальные психологи, к примеру Д. Майерс в своем учебники по социальной психологии, указывает, что если за действиями человека наблюдает группа лиц, то он начинает контролировать эти действия то есть рефлексировать их. В этом случае обычный поток его жизни замедляется, ему необходимо задумываться над каждым его движением, что уменьшает эффективность его конечных действий и результатов. Для нас нормально и привычно действовать бессознательно на основе наших внутренних шаблонов. Однако ещё более сложный вопрос перед нами открывается, когда мы начинаем изучать, откуда берутся эти шаблоны. Вырабатывает ли их человек в процессе своей социальной практики или он получает их от других людей? Может ли кто-либо навязывать ему шаблоны поведения или он волен выбирать, что сделать привычкой, а что отвергнуть? В дальнейших разделах читатель увидит, что не всегда мы являемся продуктом своих же действий. В современном мире роль других людей, социального окружения и даже тех людей, с которыми мы не знакомы и которых мы вовсе не, существенно возросла, в процессе идентификации человека как личности, в процессе принятия им решений (кратко говоря в его жизни).
Нужно сделать маленькое замечание, что когда мы говорим нерефлексивное действие, это не значит, что человек действует в соответствии со своими инстинктами. Мышление продолжает существовать и тогда, когда человек не осознаёт его существование. Если человек верит в Бога, это не значит что Бог есть. Точно так же, если человек не верит в Бога это не значит, что Бога нет. Объективный процесс человеческого мышления может протекать бессознательно, как мы видим на основе нерефлексивных действий. Это одна из особенностей, которая отделяет нас от животного мира. Мы можем анализировать наше бессознательное, изучать его, при этом руководствуясь этим бессознательным в повседневной жизни. Прошлые поколения людей выработали для нас наиболее жизнеспособные и рациональные способы, схемы и средства нашей жизнедеятельности, которыми мы пользуемся в повседневно. И этот процесс социального наследования не означает, что мы действуем в соответствии с инстинктом этого социального наследия. Это сугубо социальный процесс становления личности и формирование её в рамках социального действия.
Данные примеры, которые мы привели при изучении нерефлексивного действия относится к нерефлексивным истинным действием. Такие действия упрощают для нас ориентацию в социальном пространстве, дают нам готовые и адекватные схемы поведения повседневности или экстремальных ситуациях. В свою очередь, существует также не рефлексивные ложные действия. В этом случае человек не может осознать природу своего действия, свои мотивы и интересы, инициализирующие события. В результате, его социальное действие нарушает установленный порядок взаимодействия отношений между людьми, угрожая существованию единой групповой солидарности. Таких людей ограничивают в общении, на них налагаются социальные санкции в виде ограничений в своих решениях, изоляции и прочие попытки, в первую очередь, оградить его от социальных действий.
Если нерефлексивно истинные действия облегчают для нас жизнь и поддерживают социальную систему в стабильности, то нерефлексивно ложные действия, наоборот, ставят эту социальную систему под сомнение. Однако не нужно думать, что нерефлексивно ложные действия являются революционными действиями или действиями в процессе конфликта. Революционные действия в процессе конфликта являются рефлексивными, то есть сознательными поступками людей по преобразованию социальной жизни. К нерефлексивно ложным действиям мы можем отнести поведение человека, когда он попадает в толпу и не может адекватно оценить ситуацию, начинает вести себя девиантно. В толпе присутствуют нормы, свои механизмы контроля за членами толпы, однако индивидуальный человек не может осознать их существование и просто подвергается их влиянию, перенимает схемы действия и начинает подражать этой толпе (более того, нормы толпы, как правило, противоречат нормам социальной системы, т.е. целого общества), нарушает порядок, грабит магазины, и избивает людей, идёт на противоправные действия. Конечно, среди толпы могут быть люди, которые сознательно раздают оружие, пытаются предать действиям других людей определенную тенденцию к насилию и так далее. В этом случае мы с вами встречаемся с рефлексивно истинными действиями (потому что данные действия соответствуют целям и задачам организованным революционерам).
Рефлексивно истинные действия, это поступки людей, которые осознаются ими, помогают им действовать сознательно и с полным пониманием того, как устроена окружающая их социальная реальность. Обратимся к истории из жизни. Отец хочет научить своего ребёнка новому иностранному языку. Он понимает, что для детей существуют свои, наиболее благоприятные схемы поведения, а также механизмы мотивации ребёнка к обучению. Он анализирует и собирает информацию о том, как повысить мотивацию ребёнка к иностранному языку и заинтересовать его, используя в своих действиях наиболее благоприятные механизмы. Берёт во внимание, что в настоящий момент принято, чтобы ребёнок знал минимум три языка и т. п. Как видно из примера, отец собирает информацию, анализирует её. На основе собранной им информации он будет уже выстраивать план своих действий. Он сориентировался в пространстве и смог выставить свои цели и интересы, путём осознания окружающей реальности и механизмов влияния. В этом случае он путём своих рассуждений смог истинно отобразить действующие социальные условия, инициализирующие события, социальные факты.
Однако возьмём другой пример: дугой отец также хочет научить своего ребенка иностранному языку. Он начинает анализировать информацию, имеющуюся у него данные касаемо того, как сделать это наиболее продуктивно. В процессе своих рассуждений он приходит к выводу, что необходима жёсткая дисциплинировать ребёнка и применять телесные наказания в процессе его обучения. В результате сравнение двух вышеприведенных примеров, люди изучающие педагогику могут утверждать, что отец с более демократичным стилем управления добьется больших успехов в обучении ребенка иностранному языку. В этом случае действия второго отца, который выбрал жестокое обращение с ребёнком в процессе обучения будут являться ложными, отрицательными. Строя цепочку своих рассуждений о том, как устроена социальная реальность и на чём строится действия ребенка, он пришёл к ложным выводам авторитарной личности. Такое действие мы назовём рефлексивно ложным. Человек предпринял попытку понять, как устроены окружающие его социальные факты, однако в процессе своих рассуждений он так и не пришел к объективной истине. Отсутствие чёткого и правильного понимания социальной ситуации снизит результативность его действий, а в некоторых случаях может вовсе сорвать процесс обучения, социального действия может вовсе не случится.
Чаще всего мы проявляем свои рефлексивные способности в том случае, если встречаемся с событием, которые не видели ранее. Попадая в стрессовую ситуацию мы не знаем, какую схему поведения нужно применить нам, приходится проанализировать ситуацию. Человек резко добившийся повышения начинает анализировать то, какую социальную позицию он занял и каковы социальные ожидания предписываются ему. Точно также он анализирует то, на каком предприятии он работает, к чему необходимо стремиться в рамках данной социальной системы, каковы взаимоотношения его предприятия с другими и т. д. Рефлексивные действия, вне зависимости от мотивации человека, стремится он принести пользу в социуму или наоборот вред, в первую очередь, служат для человека шансом повышения результативности его деятельности. Принимая решение о том, что подарить человеку, каким образом предоставить подарок, мы начинаем анализировать нашего объекта (тот, на кого направленно наше действие), общий контекст ситуации, интересы и потребности людей в настоящий момент. Мы пытаемся сделать все идеально.
Касаемо рефлексивных, сознательных действий человека, можно также отметить его стремление к типологизация в момент экстремальных, незнакомых ранее условий действия. Когда человек попадает в незнакомую компанию, он пытается её типологизировать. Этот процесс простыми словами означает потребность вспомнить стереотипы поведения данного объекта, для того чтобы осознать его социальные ожидания и возможные действия. Видя человека, который нападает на других людей, мы расцениваем это в качестве антисоциального, криминального поведения. Мы типологизировали ситуацию и она послужила для нас инициирующим событием для того, чтобы вызвать полицию. Мы видим, что инициализирующее событие нередко является таковым, по той причине, что мы осознаём и его. Если бы мы спешили на работу, мы скорее всего просто быстро прошли мимо этой ситуации. В данных случаях одно и то же событие, сначала послужило основой для социального действия, а потом было просто проигнорировано. Тут также наглядно видна важность наших сознательных действий. Мы начинаем действовать не только потому, что существуют определенные условия, но и потому что мы воспринимаем данные условия и расцениваем их как события, на которые мы должны ответить.
Однако, при оценке того, когда действие рефлексивно, в какой момент оно становится нерефлексивным, мы не должны забывать о социальных фактах, влияющих на наше восприятие реальности. Механизмы социальной регуляции наших действий проявляют себя как в нерефлексивных действиях, так и в рефлексивных. Нередко осознание своих действий является лишь иллюзией, пародией на них. Рефлексия может и не происходить, а лишь казаться и приниматься от других людей.
Обратимся к примеру. Определённый человек, живущий среди зажиточных слоёв общества узнал новость о том, что вышел новый iPhone. Он быстрее собирает вещи и бежит его покупать раньше всех, при этом в его кармане лежит совершенно новый, многофункциональный Samsung. Он может воспринимать свои действия в качестве рефлексивных: он узнал новости о выходе новой модели телефона, осознал, что ему нужен этот телефон и решил его купить. Однако в данном случае мы можем указать, что его осознание потребности в новом телефоне являлось ложным. Собственно это то, что мы называем рефлексивно ложными действиями. Они происходят по той причине, что люди неизбежно попадают под влияние социальных фактов и условий их существования. В данном случае на покупателя нового телефона влияли социальные группы, с которыми он стремится себя идентифицировать. Понимая, что у них принято всегда покупать новую модель одной и той же марки, он будет это делать, несмотря на то, что у него не будет в этом ни потребности, ни интересов. Данное действие мы не можем расценить в качестве рефлексии социальных условий жизни (мол, он понимает, что живёт среди привилегированных слоёв и поэтому должен соответствовать, чтобы являться их членом). Он поступил конформно, считая данную конформность частью своей личности. Интересы его группы он начал принимать за свои интересы, из-за сильного влияния групповой идентичности он не видит, что его действия нерациональны, неэффективны, не приносят ему пользы. Наши обвинения истинны также и по отношению к социальному действию всей группы в целом. Праздный класс стремится покупать наиболее экспансивные, дорогие вещи. Это является не более чем иллюзорным сознанием и ложной рефлексией своих интересов и потребностей. Это иллюзорное сознание продиктовано социальными условиями существования данной социальной группы и необходимостью поддерживать её различия с более низшими классами общества.
Сейчас мы с вами остановимся на конкретном примере, который постараемся разобрать сквозь призму разработанных на данный момент этапов формирования социального действия. Узнав через средства массовой информации о том, что на фабрике планируется забастовка рабочих-марксистов, Человек А, по окончанию рабочего дня, спешно покинул фабрику, при этом рассказав начальству о планирующейся забастовке. Социальными условиями в данном случае будут выступать общий капиталистический климат современной формации, развивающее состояние определённой страны и зарплата данного рабочего будет несколько выше среднестатистической. Люди стремятся к свободной конкуренции, открытию своего дела, пытаются соответствовать рыночным законам. Инициирующим событием в данном случае являлось его знание о том, что некоторые рабочие хотят устроить забастовку против действующего начальства. Однако, под действием социального характера, который выражается в покорности и конформности по отношению к высшим классам, он решается рассказать об имеющейся у него информации начальству, даже если это принесёт вред его коллегам по работе. В особенности, к такому действию подтолкнула информация полученная через СМИ о том, что и другие рабочие могут подвергнуться влиянию социальных санкций, таких как лишение премий, остановка выплаты зарплат и так далее. Проанализировав всю вышесказанную информацию, человек А осознаёт ситуацию в качестве потенциально опасной для него. Он не оценивает вероятность того, что это забастовка может привести к повышению его социального престижа, репутации, экономического капитала. В результате мы можем констатировать, что на действия рабочего повлияла общая социальная ситуация, сложившаяся в обществе на данный момент в виде капиталистической информации, а это даёт большинству населения определённую ценностную ориентацию на личное, индивидуальное счастье за счёт денежного обогащения. Его идентификация с другими рабочими, которые живут по принципу «лучше не высовываться, чтобы не побили». Узнав о забастовке от своих коллег, но при этом имея данные из средств массовой информации он мог бы и не предпринимать никаких действий, однако СМИ повлияли на него, по той причине, что выставили интересы начальство завода, в качестве интересов всего общества, демонизировали группу забастовщиков. В совокупности, эти факторы дали общий тонус того, как рабочий осознал и оценил планирующую ситуацию и решился на отчаянный поступок – сдать своих коллег. Несмотря на то, что это могло расходиться с его личными убеждениями и прошлым социальным опытом, под влиянием социума и господствующих групп в нём, он решил проявить покорное поведение, опасаясь механизмов социального контроля.
Как видно из вышеприведенного примера, наше осознание, наша рефлексия не проистекает всегда в свободной форме наших личных рассуждений. Очень часто, на рефлексию влияют внешние факторы, которые истины для господствующей социальной системы, но ложны для отдельного субъекта действия, то есть для нас. Когда в следующих разделах мы начнём исследовать современный социальный контроль, то как повлияли социальные сети и информационные технологии в целом на наши действия и взаимодействия, мы убедимся, что даже мы сами как личности мало чем можем влиять на самого себя. В процессе дальнейшего изложения читатель сможет ознакомиться с закономерностью касаемо определения, когда повышается рефлективность наших действий, а когда мы, наоборот, начинаем действовать абсолютно комфортно, безличностно, подражать другим.
В данный момент стоит конкретизировать, что мы понимаем под понятием истинное действие. Рефлексивно истинное действие помогает индивиду наиболее благоприятно и продуктивно добиться необходимых для его жизнедеятельности результатов. В свою очередь, его жизнедеятельность должна представляться нам не в виде субъективного понимания «мне это надо», так как наши желания часто врут нам. Жизнедеятельность индивида представляется в виде наиболее благоприятных условий для его существования и развития. Возвращаюсь к примеру приведённому выше, рабочий, который решил выступить против забастовки и добился своей цели, так как начальству удалось разогнать бастующих, не поступал истинно в данный момент. Если бы забастовку была организована, он смог улучшить условия своей жизнедеятельности, в этом случае мы бы назвали его действия истинными. Однако его положение не изменилось, он проявил покорность и изменил свои личные убеждения под влиянием внешних групп. В этом и заключается основное противоречие человеческих действий. Мы – субъекты наших действий. Без нас невозможна никакая трудовая или творческая деятельность. Однако в процессе развития наших общественных отношений, у многих из нас либо отняли нашего субъекта и мы стали действовать так, как нравится другим, либо деформировали нашу субъектность и мы ложно рефлексируем, неправильно ориентируемся, наносим вред своему существованию самостоятельно. Прошу читателя не думать, что это личные философские рассуждения автора. Напротив, данная работа направленна на изучение социальной действительности без примеси личных убеждений и абстрактных концепций. В эмпирическом подтверждение данных выводов читатель может убедиться сам, начав анализировать повседневные действия в своей жизни, так как каждый из нас является социальным субъектом. Для того, что бы было легче понять суть наших утверждений, можно обратить внимание на конкретный факт, подтверждающий данное положение: экологические бедствия в результате техногенных факторов.
В современном мире мы можем наблюдать кризис перепроизводства. Большая масса товаров не успевает реализоваться вовремя. В результате чего, предприниматели уничтожают её. Начиная с Карла Маркса и заканчивая концепциями экономических циклов Кузнеца и Кондратьева, мы можем проследить развитие таких кризисов на регулярной основе. Конкретный пример: положение на рынке жилья в России. В последние годы там ставятся личные рекорды по строительству новостроек. Более 35 миллионов кв. м. новостроенного жилья простаивает по той причине, что у людей нет необходимых сумм для из покупки. В то время как объем аварийного жилья в 2022 году составлял 27,38 млн кв. м. Как видно из этих данных, у людей есть потребность в покупке нового жилья, однако нет необходимого экономического капитала для удовлетворение этих потребностей. В результате, с каждым месяцем, квартиры пустуют и разрушаются, не успев обрести своих владельцев. Это классический пример перепроизводства товаров. Вместе с тем до сих пор остаются многие подрядчики выделяющие на строительство новостроек большое количество денег, покупающих гектары территорий, уничтожающие леса и строящие свои предприятия, дома, фабрики. В результате мы получаем, что у нас остаётся огромная масса нереализованных товаров, которые, не успев найти своих покупателей, становятся непригодными для использования. В тоже время совместно с данной экономической тенденцией мы видим экологические разрушения, не без помощи людей. Спиливание лесов, нарушение экосистемы, промышленные отходы и т. п. В тоже время, производят все эти товары сами рабочие, у которых нет денег купить их. А если у них и достаточно зарплат, для удовлетворения своих нужд, то вместе с производством они уничтожают экосистему общества. Они бы могли этого не делать, потому что сами не заинтересованы в этом. Однако их субъектом, их рабочей силой, обладают предприниматели. Именно они и решают, как будут задействованы возможности рабочих, доходя до того, что труд рабочих оборачивается против них.
Этим небольшим отступлением мы хотели сказать, что если какой-либо человек оценивает свои действия как истинные или как продуктивные, это не означает, что они объективно обладают данными качествами. Не вдаваясь в субъективный идеализм, который исходит из того, что мир строится на субъективном понимании, мы стремимся выяснить и связать между собой, как объективные социальные явления, влияющие на нас, так и субъективное осознание, которым мы обладаем. Мы не ставим под вопрос существование возможности творческих импульсов у человека, однако указываем, что в различные периоды времени эти творческие импульсы могут проявляться с разной частотой и в различном качестве.
Когда мы поднимаем вопрос о возможности нами анализировать наши поступки и данные условия, в рамках которых мы действуем, мы неизбежно подходим к вопросу о существовании свободы выбора человека. Сложность этого вопроса заключается в том, что его пытаются исследовать, как нейробиологи, так и философы, социологи, экономисты, психологи и прочие исследователи человеческого действия. Пытаясь исходить из основ, нейробиологи, к примеру Роберт Сапольски, утверждают, что наши действия продиктованы и определены определённым строением нашего мозга и тех процессов, которые в нём происходят. Люди придерживающиеся такой концепции пытаются объяснить человеческое подчинение, лояльность к демократам или республиканцам и прочие действия людей тем, что за наши поступки отвечают определённые участки мозга. В свою очередь, в этих участках содержится различное количество необходимых гормонов, элементов, ферментов и т. д. В сущности, они в новой оболочке продолжают идеи предложенные ещё в середине XIX века, о том, что преступное, отклоняющееся поведение определяется биологическими характеристиками человека. Х. Шелдон утверждал, что люди с различным строением тела по-разному склонны к отклоняющимся поступкам. Впоследствии, подобные теории были полностью отвергнуты научным сообществом, за их необоснованностью и биологический редукционизмом, то есть попытки свести все социальные действия до биологических процессов. Эмиль Дюркгейм указывал, что социальное можно выяснять только социальным. Поэтому, если мы стремимся выяснить, обладаем ли мы свободой воли, то нам необходимо изучать нашу социальную личность, её формирование, наши социальные действия. Так как рассмотрение концепции свободы воли не является определяющим для данной книги, мы лишь изложим основные взгляды на неё высказанные ранее, взяв на вооружение то, которое будет наиболее реалистично и научно отражать реальное положение дел, соответствовать практике.
Начнём с одной из двух полярных концепций, которую мы решительно отвергаем в данной книге. Её можно обозначить как тотальный детерминизм. Суть данной концепции заключается в том, что воли человека как таковой нет. Он является простым продуктом, предикатом от биологических, физических, социальных условий существования. Одним из основателей данной концепции был Мартин Лютер. Знаменитый немецкий богослов, в честь которого названо учение в протестантизме – лютеранство. Критикуя мнение Эразма Роттердамского в книге «О рабстве воли» («De Servo Arbitrio»), Лютер утверждает, что человек не может обладать никакой свободой воли. Все его действия, без исключений, предопределены Богом и необходимостью. Как он сам пишет, «если нет Божьей благодати, она не способна ни на какое добро».
Другим примером, отрицающим существования свободы воли у человека, является ещё одно течение протестантизма – кальвинизм. Одно из основных его положений говорит о божественном предопределения нашей. судьбы. Макс Вебер, о котором мы уже не раз вспоминали в этой главе, в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» описал, что следуя учению Жана Кальвина, те люди, которые определены Богом на спасение в потустороннем мире, уже на Земле получат множество благ и благословение. В свою очередь, люди обречённые попасть в Ад, будут на протяжении всей жизни испытывать неудачи и проблемы, не смогут достигнуть своих целей. Вместе с тем, кальвинистское учение указывает, что именно в делах проявляется вера. Человек может понять свою дальнейшую судьбу (которая, конечно же, приписана ему Богом заранее) по принципу: «есть положительный результат – Бог благословил меня и это его воля и я буду трудиться за его здравствование; отрицательный результат – Бог привел меня к этому по причине грешности моей души поэтому я должен больше работать». Таким образом у кальвинистов вырабатывается стремление к рационализации, чтобы результаты их действий всегда были положительными. И хотя сами кальвинисты оценивают свои действия, в качестве божественного предопределения, сами их поступки имеют влияние на формирование их личности и изменения социальной ситуации. В частности, Вебер указывал, что именно благодаря кальвинистам развился европейский капитализм в ту форму, в которой мы его знаем.
Ещё одной религиозной концепцией, которая утверждает о божественном предопределении человеческих действий является ислам. С точки зрения ислама, вся судьба человека находится в руках Аллаха и определяется им. В результате мы приходим к тому, что действия человека является предопределёнными Богом и всё происходит по воле Божьей. Если вы резко обогатились и имеете большой успех, то это означает, что Аллах помогает или проверяет вас. Если бы вдруг, ваше действие вызвало отрицательную реакцию, привело к неблагоприятным результатам, это означало бы, что Аллах наказывает вас за ваши грехи. В результате мы получаем, что человеческие действия должны всегда равняться на Аллаха, при этом они определены же им самим.
Рассмотренные нами три религиозных течения, которые популярнее всего объясняют божественное предопределение в наших действиях естественно не могут быть применены и даже оспорены в данной книге по причине того, что они являются различными формами проявления веры. Поэтому мы не должны будем сейчас оспаривать определённые религиозные учения, а перейдём к рассмотрению научных теорий, которые старались на практической базе доказать, что наши действия являются детерминированными, предопределёнными объективными условиями.
Одна из распространённых философских концепций под названием фатализм указывает, по той причине, что все действия человека имеют причину, они предопределены. И вправду подумает простой обыватель, ведь я купил еду, потому что я хотел есть. Оценивая социальное действие можно сказать, что человек поздоровался, потому что увидел другого человека. Была объективная ситуация и она предопределила наши действия. Однако причинность наших поступков ещё не означает того, что действие предопределено и человек не имеет свободы выбора. Нужно отметить, что всё в данном мире имеет свою причину. Всё взаимосвязано и взаимозависимо. Когда изменяется один из элементов социальной системы, закономерно изменяются и другие элементы, перестраиваются, меняются отношения между элементами. Такая причинность ещё не означает, что нам может быть заранее известно, то как будут обстоят дела или, что такие изменения должны были быть обязательными и субъект никак не может повлиять на них. В этом случае весьма разумно применить цитату одного из классиков марксизма Фридриха Энгельса: «свобода есть познанная необходимость». Однако отложим пока нашу критику данной концепции и попытаемся объяснить ее суть.
Один из принципов фатализма говорит, что если событие X является причиной события Y, значит между ними присутствует причинная связь. Следовательно, когда произойдёт событие X, должно будет произойти событие Y. В поле элементарных и рациональных операций, такое понимание вполне оправдано. Однако если мы переходим в сферу социальных действий, то следует указать, что любое событие происходящее в социальной системе не имеет четко определённых последствий. В социальном пространстве ситуация происходит следующим образом: событие X является причиной для события Y, Z, A, B, C… и ещё множество. В связи с этим очень удачно сейчас вспомнить концепцию Роберта Мертона – непреднамеренные последствия. Люди действуют в одном социальном поле, для успешного взаимодействия разделяют общие нормативные конвенции. В соответствии с этим, они примерно одинаково понимают и ощущают социальную действительность, прогнозируют её развитие. Если брать поле экономики, то в нем каждый может стремиться к увеличению своей выгоды, но в конечном итоге это может привести к краху рынка. При этом социальная ситуация, к примеру развитие и пик роста капиталистической фармации, может способствовать тому, чтобы каждый человек лояльно относился к господствующим капиталистическим ценностям. Однако помимо того, что большинство людей и вправду могут разделять данные ценности, всегда будет существовать процент контркультурных движений, направленных против господствующих норм и ценностей. Несмотря на экономический рост, культурное благополучие и так далее, некоторые люди будут продолжать свою борьбу. В этом случае мы видим, что множество событий связаны между собой и воздействуют друг на друга. Можно привести более простой пример из физики: человек бросает яблока с балкона. Первоначально, нет никаких сомнений, что яблоко упадёт на землю. Однако в процессе своего полёта его ловит другой человек. В итоге, не смотря на то, что первый человек бросил яблоко и закон всемирного тяготения не перестал действовать, яблоко не коснулось Земли. Фаталист может сказать «да, это произошло по той причине, что другой человек его поймал, значит (разумеется, не значит) еэто было предопределено». Однако мог кто-либо предположить заранее, что другой человек помешает закону тяготения в его осуществлении притяжении яблока? Нет. В этот момент различные действия соединились, на предмет действовали различные силы, установился контакт и присутствует причинно-следственная связь. Однако последняя ещё не свидетельствует о том, что человек определено должен был поймать именно это яблока и именно в данное время.
Однако покончим с религиозными и философскими рассуждениями и перейдем к научным спекуляциям на тему отрицания свободы воли.
Один из самых главных основателей, который послужил развитию тенденции отрицания свободы воли через нейробиологию был Бенджамин Либет. В 1983 году он, совместно с другими учёными, провел эксперимент, пытаясь выяснить связь между активностями в мозге и принятием решения людьми. Согласно представленным выводам, человеческий мозг планирует действие раньше чем мы осознаём, что хотим совершить тот или иной поступок. Либет не отрицал полностью свободу воли человека, однако ограничивал ее до двоичного кода принять/отклонить (спланированное мозгом и лишь осознанное нами желание). Стоит также отметить, что эксперименты Либета ограничились в простых, поведенческих аспектах: согнуть/разогнуть палец, согнуть запястье и т. п. Отрицать на основе подобных экспериментов существование высокоорганизованной свободы воли человека в социальных действиях, означает противоречить научной методологии.
Последние открытия в нейробиологии и нейропсихологии человека показывают, что нет достаточных оснований доверять в правильность результатов эксперимента Либета. Группа ученых под руководством Джона-Дилана Хайнеса провела эксперимент, который подтвердил, что люди сами могут принимать решения о действиях. Отказываться от их выполнения, модифицировать, контролировать его. И это все на уровне единичных актов физической деятельности людей! Разве можно применять их к социальным действиям, которые более многообразны и сложнее, ведь вбирают в себя не только поведенческие и инстинктивные аспекты действия, но и множество социальных фактов, событий, побуждают человека к неизбежному изучению самого себя! Через социологию можно объяснить даже результаты эксперимента Либета, что и сделал группа ученных НИУ ВШЭ, показав, что на осознание индивидами своих решений влияет общий социальных контекст ситуации – эксперимент. Сама инструкция и социальная роль участника эксперимента подталкивала его к тому, что он должен получить побуждение действию ещё до стадии его осознания.
«Наше исследование подчеркивает неоднозначность исследований Либета и доказывает отсутствие прямой связи между сигналом мозга и принятием решения. По-видимому, классическая парадигма Либета не подходит для ответа на вопрос, свободны ли мы в принятии решений. Мы должны придумать новый подход к этой интереснейшей научной загадке» – Дмитрий Бредихин, автор исследования, младший научный сотрудник и аспирант Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.
Люди, которые стремятся «более» (в самом деле, в науке не может быть слов «более» или «менее». Все наши знания относительны, но они либо истинны, либо ложны, либо являются недоказанными) научно объяснять отсутствие свободы воли, к примеру, Роберт Сапольски, о котором мы упоминали, говорит, что все наши действия основываются на нашем прошлом опыте. Этот прошлый опыт строится на влиянии биологических и социальных фактов на человека. Если мы хотим купить ручку для конспекта лекции, то следуем нашему эмоциональному состоянию, нашему раннему детству, нашим привычкам, которые мы получили от социума. Факты, которые привёл Роберт Сапольски безусловно верны. Когда мы принимаем решение о каком-то действии, у нас имеется определённая и биологическая, и социальная основа. Но имея основу, мы можем не только действовать в соответствии с ней, но и стараться отрицать её (кстати, тоже под влиянием социальных фактов, таких как субкультуры и пр.). Необходимо исходить из того, что наша свобода это понимание самих себя и окружающего нас мира. Если мы начнём изучать то, что Мы представляем собой, как мы сформировались; если мы обратим внимание на внешние и внутренние факторы влияющие на наше повседневное поведение, то мы сможем более сознательно принимать решения. Вспомним, про покупку ручки для записи лекций. Если у нас будет раздражительное состояние, потому что мы будем злы на какого-либо человека или на весь мир в целом, то вполне может быть так, что мы схватим первую попавшуюся ручку, кинем несколько небрежных слов в пустоту и пойдём на лекцию дальше. Однако если мы будем более вдумчивыми в своих поступках, но при этом продолжая оставаться раздражительным, то мы можем попытаться понять «почему я раздражен в данный момент?». Быстро проанализировав ситуацию, мы можем прийти к выводу, что это по причине нашего ролевого конфликта (социологическое явление, при котором человек выполняет две или более социальных ролей, противоречащих друг другу. Также он может выступать в форме несоответствия личных убеждений предписываемых нам социальных ролей). Поняв это, мы можем начать сосредотачиваться на наших будущих действиях, а не на прошлом. Стремясь отбросить злые мысли, мы начинаем думать о лекции и долго, вдумчиво выбирать подходящую ручку. Как видно, у нас были одни и те же причины раздражения, только в первом случае мы отказались от рефлексии, а во втором случае попытались проанализировать наши поступки. Возможно вы можете заметить, что человек, который начал анализировать свои поступки делает это на основе своего социального опыта, потому что он имеет определённые знания о том, что этим надо заниматься. Такая ситуация не исключена, однако с такой же долей вероятности можно сказать, что человек имел знания о необходимости рефлексии, но решил их проигнорировать. Вспомним наш пример о рабочем и забастовке. Рабочий имел знания о том, что забастовка может ему принести пользу, однако он посчитал, что она является более неблагоприятной ситуацией, чем повседневная эксплуатация. Другие рабочие обладали примерно тем же уровнем знаний, культурным и экономическим капиталом, однако придерживались другой точки зрения. Он мог бы даже рискнуть против своего решения и отказаться от доноса, в пользу своих коллег. В конечном счёте, мы всегда оказываемся перед выбором: делать или нет.
Сделав этот поистине серьёзный выбор, мы можем его обосновать, доказать, что он был необходим и т. д. Это, в общем, свойственно для психологии людей. Д. Майерс указывал, что наши действия приобретают смысл в момент и после их свершения, а не в период их формирования. Это вполне верное утверждение, если мы говорим про повседневные нерефлексивные действия. Поступив определённым образом, на следующий день мы можем проанализировать это действие и сказать «я поступил глупо, на это не было оснований», но куда чаще людям свойственно считать, что «у меня не было другого выхода».
Таким образом, основная проблема всех концепций, которые отвергают свободу воли человека заключается в том, что они придают самому термину свободу воли такой большой охват, что его может опровергнуть любой ребёнок своими эмпирическими действиями. Свободу воли нужно понимать не так, что наше сознание находится в отрыве от всех прочих условий, а в качестве возможности человека проанализировать свои действия и поступить в другой момент иначе, как ему хотелось бы или как к этому принуждала бы ситуация. Человек в любом случае живёт в определённой обстановке. Но эта обстановка не может полностью предопределить наполненность и качество его социальных действий, хотя всегда задаёт определенную тенденцию в человеческом поведении. Однако эта тенденция ещё не может полностью определить к чему человек будет стремиться, к чему он придет, какие последствия вызовет то или иное событие и пр.
Читатель может заметить, а не противоречит ли наша защита существования свободной воли у человека тому, что мы говорим о том, что наши действия зачастую в повседневной жизни определяют другие люди? Более того, в дальнейших разделах читатель увидит то, как мы анализируем влияние социальных отношений и социального контроля на наше единичное поведение и убедится, что зачастую мы являемся лишь подчинёнными в нашем поведении и в нашей личностной ориентации. Поэтому, вовсе нет, не противоречит. Дело заключается в том, что человек может обладать определёнными характеристиками, однако не пользоваться ими. Каждый человек обладает определённым талантом в различных сферах. Кто-то является хорошим слесарем, у кого-то талант читать лекции, а у другого учиться и преподавать в школе. Однако, если он будет расти в неблагоприятных условиях, где его будут принуждать к определённой традиционной жизни, подавлять его личные интересы и потребности, то его талант не будет развиться. В этом случае он станет лишь следствием обстоятельств, а не действующим субъектом.
Как видно из нашего анализа человеческих социальных действий, мы не утверждаем, что человек всегда и повсеместно действует исключительно на основе своих собственных мыслей, предпочтений и интересов. Из нашей концепции видно, что фундаментальными критериям в процессе формирования социального действия являются социальные условия практики. Мы не можем согласиться с мнением, что человек может делать выбор свободно от социальных и биологических условий. Такое невозможно, так как все мы являемся определёнными биологическими организмами, следовательно имеем не менее определённые, фундаментальные потребности, которые будут формировать наши первичные интересы. Точно также мы можем сказать, что любой среднестатистический человек в современном мире является социальной личностью, его мышление структурируется определённым образом в соответствии с достижением нами открытий и передачи последних путем социального наследования. Следовательно, когда мы начинаем осознавать себя в качестве одного из элементов более общей структуры, в качестве социального субъекта мы можем подавлять даже свои биологические потребности. Это приводит нас к заключению, что когда мы начинаем свободно анализировать ситуацию, чтобы принять свое решение, мы все равно основываемся на биологических и социальных условиях. Однако основываться не значит быть предопределёнными. Все мы стоим на Земле и для того, что бы производить нам необходима наша планета. Но существование на определенной планете не может сказать точно, что мы и как будем производить. Она может ограничить нас в наших действиях. К примеру, если на земле не будет золота, то мы не будем производить продукты из золота. Но в этом случае золото для нас заменит другой материал, который мы посчитаем наиболее подходящим. В этом случае мы не отрицаем причинно-следственную связь между нами и нашим основанием в виде земли, мы заключаем, что наша жизнь формируется не только за счёт того, что мы ходим по ней. Мы сами производим нашу жизнь, хотя и не всегда сознательно.
Таким образом мы весьма обстоятельно разобрали, что основные концепции пытающиеся заявить о предопределённости наших действий не могут быть подтверждены практикой ежедневных человеческих поступков. Некоторые концепции выходят из религиозных постулатов, другие основываются на философских спекуляциях, а третьи ограничены научными неточностями. Куда большую опасность привносят теории, которые следует запутанной научной методологией и терминологии. Стоя на позиции существования свободы воли у каждого человека, мы однако не разделяем многие теории, которые схожи в данном выводе. Дело в том, что многие из этих теорий говорят, что человек может полностью решить свою судьбу, построить себя, быть одним воином посреди большого поля внешних условий.
Большое количество теоретиков, в особенности психологов и социальных философов, утверждают, что у человека есть его независимая сущность, внутренний голос, которым он должен руководствоваться в жизни, невзирая ни на какие социальные обстоятельства. И именно в этом случае человек может стать «свободным». Выше, мы уже критиковали теорию рационального выбора человеческих действий по той причине, что он (человек) не может постоянно исходить исключительно из материального расчёта прибыли и затрат. Помимо его личных предпочтений, которые очень часто оказываются ложными, человек в стремлении к рациональности оказывается в болоте иррациональных размышлений. Существуют множество социальных фактов, механизмов социального контроля, социальных отношений, управляющих человеческими действиями и поведением в целом. Таким образом, в своих действиях человек может проявлять самого себя, управлять своими действиями. Но это управление не означает абсолютной свободы, так как мир не строится вокруг одного человека, а является системой множества элементов. Социолог Р. Арон окончательно описал это через научную призму:
«… ни один член общества не является полностью свободным по отношению ко всем другим (за исключением, согласно идеальной гипотезе, абсолютного тирана), и никогда индивид не лишен полностью свободы, т.е. не может делать что бы то ни было, ибо ему препятствуют другие или угрожают санкциями»
Однако в наших рассуждениях о том, существует ли свобода воли, мы не можем не упомянуть о человеческой трансформации. Общество не находится в постоянном состоянии, оно находится в движении, в динамике. В процессе данного движения, которое в историческом масштабе всегда означает развитие, изменяется структура человеческого общества, социальная система. С изменениями социальной системы происходят и изменения социального контроля, его степени и механизмов, изменяются социальные отношения и взаимодействия между людьми, а вместе с этим изменяются и сами люди. Мы вполне можем указать на различие между питекантропом и современным человеком. Точно так же мы можем указать и на различия в свободе воли и рефлексивности человека рабовладельческой эпохи и сегодняшнего дня.
Необходимо заметить, что в данный момент мы ведём наши рассуждения о свободе воли, а не свободе в общем. Свобода воли означает, что человек может осознавать свои действия и на основе своего сознания отказываться от их воплощения, модифицировать их, понимать, как устроено его социальное действие, и на что оно направлено. В свою очередь, свобода в общем зачастую означает возможность человека беспрепятственно реализовывать себя и свои ценности, достигать своих целей. В этом случае мы с вами уже переходим в разряд экономической и политической свободы, которая будет рассмотрена в дальнейших разделах, так как её понимание основывается на уяснении для самих себя, что означают наши социальные действия и наша личность.
Вернёмся к практическим примерам, для понимания свободы воли и её трансформации. В настоящий момент, с массовым распространением оппозиционной литературы, существованием множества субкультурных и контркультурных групп несложно идентифицировать себя в качестве борца против господствующей системы. Таким образом человек выбирает для себя – соответствовать нормам и ценностям всего общества или отвергнуть их. Однако так кажется только на первый взгляд. Если мы обратимся к разделам III, IV и V следующих книги, то увидим, что в настоящий момент господствующими ценностями западного общества является необходимость идентифицировать себя с определённой группой меньшинств. Российский социолог Л. Ионин в книге «Восстание меньшинств» хорошо иллюстрирует это. Сегодня мы живём в обществе меньшинств и следуем их логике. Поэтому если человек считает, что он идёт против общества по той причине, что принадлежит к субкультуре отличающийся от других, то тем самым только поддерживает данное общество в стабильности, а не противоречит ему. В этом и заключается сложность понимания сегодняшних наших социальных действий, нашей свободы, нашего единичного поведения, которое будет рассмотрено в процессе дальнейшего изложения.
Однако обратимся к истории прошлых этапов развития человеческого сообщества. Георг Зиммель отмечал, что раньше человек принадлежал к меньшему количеству социальных групп, следовательно, его жизнь была менее определённой. Сегодня мы видим с вами множество заводов, занимающихся массовым производством, массовой стала культура, музыка, образование и прочие сферы человеческой деятельности. Однако несколько веков назад массовое производство ещё только начиналось зарождаться, основными производителями продуктов труда были мелкие собственники, ремесленники и мастера. Каждый мастер производил свой продукт определенного вида. Это могло быть сообщество сапожников, однако они не имели единых и обязательных для всех методичек по производству, и каждый продукт представлял собой продукт конкретной мастерской. В этом случае сапожник сам мог выбирать для себя форму сапог, их предназначение, их цвет, их функционал и т. д. Сегодняшний же сапожник должен следовать логике массового рынка и массового покупателя. Таким образом, сапожник во времена позднего феодализма (в Европе охватывал ХVI-ХVII века, а на Востоке – ХVI-ХIХ века) был более свободен в выборе своих действий, чем современный производитель. Возможно, читателю привыкшему считать (по причине ежедневного влияния либеральных СМИ говорящих о торжестве свободе и равенстве), что мы живём в наилучшем из миров, сложно будет это понять на данный момент. Если вы хотите вникнуть в данный вопрос, то необходимо будет проследить историю наших взаимодействий во второй главе, и возможно тогда ситуация станет более ясным прологом для дальнейших рассуждений о тотальном контроле.