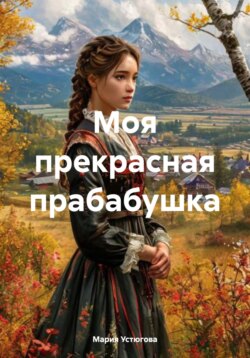Читать книгу Моя прекрасная прабабушка - - Страница 6
Казачья семья Ушаковых
ОглавлениеРассвет медленно растекался над сопками, окутывая их нежно-розовой дымкой. Забайкальское солнце, ещё не набравшее полную силу, ласково касалось крыш казачьего села Лесково, разбросанного по склонам холмов словно горсть зерна, брошенная щедрой рукой сеятеля. Петухи надрывно возвещали о начале нового дня, и их голоса плыли над притихшей долиной, сливаясь с журчанием реки и шелестом высоких трав.
Живописное село Лесково, основанное в первой половине XVIII века крестьянами, переселёнными в зачёт рекрутского набора, к 1851 году обрело новый статус – его жителей перевели в казачье сословие. Здесь, на перекрестье степных ветров и таёжных запахов, среди холмистых просторов Забайкалья, жил казак Спиридон Михайлович Ушаков.
Его усадьба стояла на пригорке, откуда открывался вид на всю станицу и извилистую ленту реки, серебрившуюся в лучах восходящего солнца. Добротный дом из крепких лиственничных брёвен, почерневших от времени, но сохранивших запах смолы, был окружён высоким частоколом. За ним виднелись хозяйственные постройки: амбар, баня, конюшня, где содержались лошади – гордость каждого казака.
Спиридон Михайлович происходил из старинного казачьего рода, чьи корни, подобно могучим корням вековой лиственницы, уходили глубоко в историю освоения сибирских земель. Его прадед, Василий Ушаков, пришёл в эти края ещё в начале XVIII века с первыми казачьими отрядами, охранявшими границу с Китаем. Отряд, в котором служил Василий, был послан для укрепления южных рубежей Российской империи, и зоркие глаза молодого казака первыми заметили это место – излучину реки, защищённую сопками, словно созданную самой природой для поселения.
С тех пор Ушаковы, подобно дозорным на дальней заставе, верно служили на пограничной линии, передавая от отца к сыну казачью науку – умение держаться в седле с младенчества, владеть шашкой и винтовкой, читать следы в степи лучше любого охотника, выживать в самых суровых условиях. Эта наука была записана не в книгах, но в крови и памяти рода, передавалась с молоком матери и с первыми уроками отца.
Спиридон Михайлович выделялся среди станичников своей статью – крепкий, плечистый, с русыми волосами, тронутыми сединой на висках, и внимательным взглядом серых глаз, которые, казалось, могли видеть сквозь человека. Лицо его, обветренное и загорелое, было испещрено морщинами – свидетельством прожитых лет и перенесённых тягот. Широкие плечи, привыкшие к тяжёлой работе и военной службе, носили форму забайкальского казака с той же гордостью, с какой носит свои ордена заслуженный генерал.
В молодости он женился на Марии, девушке из семьи потомственных казаков, чей род также пришёл в Забайкалье с первыми поселенцами. Она была светлой и тихой, словно утренняя заря над степью, с глазами цвета весеннего неба и волосами, напоминавшими спелые колосья пшеницы. Её голос, негромкий и мягкий, напоминал журчание ручья, а руки, несмотря на тяжёлую работу по хозяйству, оставались нежными и тёплыми.
В маленькой церквушке, стоящей на самом высоком холме села, они обменялись клятвами верности перед ликами святых и всем миром. Свадьбу играли три дня, как было принято у казаков, с песнями и плясками, обильным угощением и традиционными обрядами. Молодые светились счастьем, а станичники радовались, что два славных рода соединились, обещая продолжение казачьего племени.
Недолгим было их счастье: в 1895 году, подарив мужу сына Ивана, Мария умерла при родах. Осеннее небо плакало дождём в тот день, когда её опускали в могилу на сельском кладбище, расположенном на склоне сопки, откуда открывался вид на всю долину. Спиридон Михайлович стоял, словно каменный, держа на руках новорождённого сына, а ветер трепал полы его чёрного кафтана и рвал с головы фуражку.
Долго горевал Спиридон Михайлович, замкнувшись в себе, словно таёжный медведь в берлоге. Целыми днями он пропадал в степи, возвращаясь домой только с наступлением темноты, молча садился у окна и смотрел на звёзды, словно искал среди них душу своей возлюбленной. Маленького Ивана взяла к себе сестра Марии, Прасковья, и заботилась о нём, пока отец боролся со своим горем.
Но жизнь казачья требовала крепкой хозяйки в доме, да и сыну нужна была мать. Станичники, видя, как чахнет некогда бравый казак, начали настойчиво сватать ему невест. «Негоже казаку без жены, а ребёнку без матери», – говорили старики, собираясь на сходе. И Спиридон Михайлович, пересилив себя, согласился.
Через год после смерти Марии родители привезли ему невесту из соседней станицы – Марину Ивановну. Темноволосая, смуглая, с карими глазами, в которых переливались золотистые искорки, и сильными руками работницы, она была полной противоположностью первой жене. Но в её взгляде читались решимость и сила характера, столь необходимые на суровой забайкальской земле.
По старинному казачьему обычаю ударили по рукам, скрепив договор чаркой крепкой домашней настойки, и вскоре сыграли свадьбу. Она была скромнее первой – без долгого гуляния и буйного веселья, но с соблюдением всех необходимых обрядов. Марина принесла в дом Ушаковых свою энергию и трудолюбие, с первых дней взявшись наводить порядок в запущенном хозяйстве.
Маленького Ивана она приняла как родного, окружив его заботой и лаской. Мальчик, поначалу настороженно смотревший на новую «маму», постепенно оттаял под её тёплым взглядом и ласковыми руками, которые всегда находили время погладить его по голове или заплести непослушный вихор.
Марина оказалась хорошей хозяйкой и заботливой матерью – родила Спиридону ещё двух сыновей: Николая в 1898 году и Максима в 1900-м. Все рождения были записаны в церковно-приходской книге единственной церкви Лесково, где служил отец Серафим, седобородый старик, крестивший ещё отца Спиридона.
Трое сыновей росли в атмосфере казачьих традиций и дисциплины. С раннего детства они впитывали жизненный уклад предков: уважение к старшим, любовь к земле и военному делу, преданность вере и Отечеству. Иван, самый старший, унаследовал от отца его статную фигуру и проницательный взгляд серых глаз, от матери – светлые волосы и мягкую улыбку. Николай, похожий на вторую мать тёмными волосами и карими глазами, отличался бойким характером и неуёмной энергией. Максим, самый младший, вобрал черты обоих родителей и рос вдумчивым и наблюдательным мальчиком.
Жизнь в казачьей станице текла по веками заведённому порядку, словно полноводная река по глубокому руслу. С первыми лучами солнца, когда роса на травах ещё не успевала высохнуть, казаки уже были на ногах. Женщины растапливали печи, готовили завтрак, доили коров и кормили домашнюю птицу. Мужчины занимались более тяжёлой работой: заготавливали дрова, чинили изгороди, ухаживали за скотиной.
После краткого завтрака казаки отправлялись каждый к своему делу – работали в поле, пасли табуны лошадей, заготавливали сено или охотились в тайге. Особое внимание уделялось военной подготовке – каждый казак должен был содержать коня и справную амуницию, регулярно участвовать в учениях, которые проводились под руководством станичного атамана и урядников.
По выходным молодёжь собиралась на майдане – широкой площади в центре станицы, где проводились традиционные игрища: джигитовка, когда лихие наездники демонстрировали невероятные трюки на полном скаку; рубка лозы, требовавшая отточенного мастерства владения шашкой; стрельба из винтовки по удалённым мишеням. Старики, опираясь на посохи, внимательно наблюдали за молодыми, оценивая их мастерство и давая советы.
Зимними вечерами, когда ранние сумерки окутывали станицу, а морозный воздух заставлял стены домов трещать от стужи, в избах устраивались посиделки. При свете керосиновых ламп и потрескивании поленьев в печи старики рассказывали былины о славных походах забайкальских казаков, о стычках с хунхузами на китайской границе, о встречах с дикими зверями в таёжной глуши. Молодёжь внимала этим рассказам с открытыми ртами, а потом пела протяжные казачьи песни, от которых щемило сердце.
Праздники в станице отмечались с размахом, сохраняя старинные обычаи, привезённые предками из европейской России и обогащённые местным колоритом. На Масленицу устраивались конные состязания и кулачные бои стенка на стенку, когда одна часть станицы сходилась с другой в шутливой, но порой жестокой схватке. На Троицу девушки в ярких сарафанах водили хороводы вокруг молодых берёз и плели венки, которые затем пускали по реке, гадая о суженом. На Покров, когда первый снег уже посеребрял сопки, проводились смотрины невест – молодые казачки демонстрировали своё умение вести хозяйство, рукодельничать и держаться перед старшими.
Особо чтили казаки праздник Георгия Победоносца – покровителя воинства. В этот день после торжественного молебна на площади устраивался военный парад. Казаки, одетые в парадную форму, с блестящими погонами и начищенными до блеска сапогами, демонстрировали своё мастерство владения оружием и верховой езды. Звон шашек, свист нагаек, громкое «ура» разносились над станицей, а женщины и дети с гордостью смотрели на своих защитников.
Дом Ушаковых всегда был полон жизни. Марина Ивановна, словно пчела-труженица, с рассвета до заката хлопотала по хозяйству. Её руки никогда не знали покоя – то месили тесто для хлеба, то прялись с веретеном, то штопали одежду для мужа и сыновей. В большой русской печи всегда что-то булькало и шкворчало, наполняя дом аппетитными запахами, а во дворе суетились куры, гуси и утки, за которыми женщина следила с неусыпной заботой.
Спиридон Михайлович ценил в своей второй жене эти качества – трудолюбие и заботу о детях, хозяйственность и умение поддержать порядок в доме. Он уважал её за сильный характер и умение справляться с любыми трудностями, за то, что она приняла его сына как родного и никогда не делала различий между детьми. Между ними установились отношения взаимного уважения и поддержки, которые, если и не были пронизаны той романтической любовью, что связывала его с Марией, всё же давали прочную основу для семейной жизни.
Но в тихие вечера, когда все домашние уже спали, а Спиридон Михайлович выходил на крыльцо покурить трубку, он часто поднимал глаза к звёздному забайкальскому небу, глядя на звёзды, россыпью усеявшие чёрный бархат ночи. В такие моменты он всё чаще вспоминал свою первую любовь – светлую, как утренний туман над рекой, Марию. Он видел её лицо среди звёзд, слышал её голос в шелесте листвы, чувствовал её присутствие в лёгком дуновении ветерка. Эта светлая грусть никогда не покидала его сердце, став частью его души, но не мешала ему быть добрым мужем и заботливым отцом.
В доме Ушаковых строго соблюдались казачьи обычаи, передававшиеся из поколения в поколение. Младшие почитали старших, вставая при их появлении и не садясь за стол, пока глава семьи не займёт своё место во главе. Дети с малых лет приучались к труду, выполняя посильную работу по хозяйству, и к военному делу – даже игры мальчиков были направлены на развитие ловкости, силы и смекалки, необходимых будущему воину.
На стене в горнице, самой большой и светлой комнате дома, висела старая отцовская шашка – реликвия, передававшаяся в роду Ушаковых от отца к старшему сыну. Её рукоять, отполированная ладонями нескольких поколений казаков, хранила тепло их рук, а лезвие, несмотря на возраст, оставалось острым, способным рассечь шелковый платок, брошенный в воздух. Этот символ казачьей доблести занимал почётное место рядом с иконами в красном углу и напоминал всем о воинском долге рода Ушаковых.
По вечерам вся семья собиралась за большим столом, сделанным из цельного ствола сибирского кедра. Лица домочадцев освещались тёплым светом керосиновой лампы, отбрасывавшей причудливые тени на бревенчатые стены. После ужина, когда посуда была убрана, а на столе оставался только дымящийся самовар и чашки с ароматным чаем, Спиридон Михайлович рассказывал сыновьям истории о славном прошлом их рода.
Его низкий, хрипловатый голос звучал то как раскаты грома, когда речь шла о сражениях, то как журчание ручья, когда он вспоминал мирные дни. Он говорил о подвигах предков, о чести и долге казака перед Отечеством, о верности присяге и боевому братству. Эти рассказы западали в душу мальчиков глубже, чем любые нравоучения, формируя их характер и мировоззрение.
Так жили Ушаковы – хранители традиций, носители казачьего духа, продолжатели славного рода, чья история была неразрывно связана с историей Забайкалья и всей Сибири. Их жизнь, как полноводная река, текла по руслу, проложенному предками, питаясь родниками народной мудрости и веры. Эта река несла свои воды в будущее, обещая новые повороты и перекаты, но всегда стремясь к океану вечности, где сливаются судьбы всех поколений.