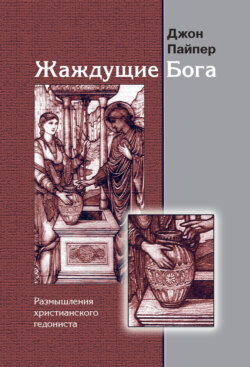Читать книгу Жаждущие Бога. Размышления христианского гедониста - - Страница 5
Глава 1
Божье счастье
Основание для христианского гедонизма
ОглавлениеБог наш на небесах; творит все, что хочет.
Пс. 113:11
В моем мышлении произошли чудесные перемены в отношении учения о Божьем суверенитете… Это учение часто давало огромную радость, счастье и сладость. Абсолютный Божий суверенитет – это то, что я люблю в Боге.
Джонатан Эдвардс
Пик Божьего счастья —
это радость, которую Он приносит,
в отражении Своего господства
и в хвале Своего народа.
Джон Пайпер
Исходное основание христианского гедонизма находится в том факте, что Бог господствует в своих нежных чувствах:
Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем.
Причина, по которой это может выглядеть странным, заключается в том, что мы более привыкли размышлять о наших обязанностях, нежели о Божьем замысле. Задумываясь же о Божьем замысле, мы склонны изображать его так: мы – в центре Божьего благоволения. Мы, например, говорим, что Его замысел заключается в искуплении мира. Или в спасении грешников. Или в восстановлении творения. Или в чем-то еще.
Но Божий замысел спасения можно назвать предпоследним шагом, но никак не последним. Искупление, спасение и восстановление не являются окончательной целью Бога. Он совершает это ради чего-то большего, а именно ради наслаждения, которое Он получает, прославляя Себя. Настоящее основание христианского гедонизма зиждется не на Божьей преданности нам, а на верности Себе.
Если бы Бог не был безгранично предан стремлению сохранить и показать Свою славу, равно как и насладиться ею, у нас не было бы никакой надежды обрести в Нем счастье. Но если Он действительно использует всю Свою суверенную власть и безграничную мудрость для увеличения наслаждения Своей славой, у нас появляется основание для радости.
Я знаю, вначале это озадачивает. Поэтому я постараюсь разбить мою мысль на части, чтобы затем в конце данной главы сложить их опять вместе.
Божий суверенитет. Основание для Божьего и нашего счастья
Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит Ему счастье.
Эти цели не могут не исполниться.
Поэтому Он не испытывает недостатка ни в чем. И Он никогда не унывает и не печалится.
Он всегда полон и переполнен энергии ради Своего народа, ищущего в Нем свое счастье.
«Бог наш на небесах; творит все, что хочет» (Пс. 113:11). Суть этого отрывка заключается в следующем: у Бога есть право и власть делать все, что доставляет Ему радость. Именно это мы подразумеваем, когда говорим, что Бог суверенен.
Задумайтесь на секунду: если Бог суверенен и делает все, что хочет, ничто не помешает осуществлению Его планов.
Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его – в род и род (Пс. 32:10,11).
И если ничто не помешает осуществлению Его планов, Он должен быть счастливее всех сотворенных Им существ. Безграничное, божественное счастье – источник, от которого насыщается и желает еще более насытиться христианский гедонист.
Вообразите, что случилось бы, если Бог, управляющий всем миром, не был бы счастлив? Что если бы Бог ворчал, дулся и печалился, словно какой-то капризный великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и удручен? Могли бы мы воскликнуть вместе с Давидом: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Пс. 62:1)?
Не думаю. Иначе мы бы все относились к Богу подобно маленьким детям, отцы которых расстроены, мрачны, унылы и недовольны. Им бы не понравились такие отцы. Они старались бы сделать все возможное, чтобы не побеспокоить их, или, по крайней мере, пытались бы своим усердием заслужить некоторое их благоволение.
Поэтому, если Бога нельзя назвать счастливым, у христианского гедонизма нет основания. Ибо цель христианского гедонизма – обретение счастья в Боге, радость в Нем, воодушевление от Его благоволения и наслаждение в общении с Ним. Однако дети не могут наслаждаться общением со своими отцами, если те несчастливы. Поэтому основание христианского гедонизма – счастье Божье.
В свою очередь, основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность: «Бог наш на небесах; творит все, что хочет». Если Бог не суверенен, а сотворенный Им мир находится вне Его контроля, вновь и вновь нарушая Его первоначальный замысел, – Бог не может быть счастлив.
Наша радость покоится на Божьем обетовании, что Он в полной мере силен и мудр, чтобы направлять все для нашего блага, а Божья радость зиждется на том же самом суверенном контроле: Он творит все для Своей славы.
Итак, если все это в столь значительной степени зависит от суверенной власти Бога, нам следует удостовериться в надежности библейского основания для нее.
Библейское основание для суверенного счастья Бога[11]
Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю».
Поэтому Иов говорит: «Намерение Твое не может быть остановлено».
Его намерения простираются на все в мире, включая грех. Тем самым распятие Христа было Божьей волей, даже если это был самый большой грех, когда-либо совершенный.
«В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа»[12].
А если Бог есть Бог, то невозможно расстроить Его план. Об этом говорит пророк Исаия:
Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю (Ис. 46:9,10).
Божий замысел не может расстроиться; нет ничего, что было бы подобно Богу. Если предположить, что Божий замысел может не достигнуть результата, это означает, что в мире существует сила, превосходящая силу Бога. Значит, кто-то может противиться Его руке, когда Он определяет что-либо. Но нет «никого, кто мог бы противиться руке Его», говорит Навуходоносор:
…Которого владычество – владычество вечное и Которого царство – в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» (Дан. 4:31,32).
Его суверенитет ограждает от беды
Вот что сказал Иов в своем окончательном исповедании, после того как Господь ответил ему из бури: «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов. 42:2). «Бог наш на небесах; творит все, что хочет».
В этом случае перед нами встает вопрос, можно ли считать зло и бедствия в этом мире также частью Божьего суверенного замысла. Иеремия, обозревая кровавую бойню в Иерусалиме после его разрушения, восклицает:
Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц (Пл. 2:11).
Но когда он взирает на Бога, он не может не признать истину:
Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? (Пл. 3:37,38).
«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»
Если Бог как суверенный Господь правит миром, то все зло этого мира не может не находиться под Его контролем: «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Ам. 3:6).
Иов, Божий слуга, когда был поражен проказой, благочестиво сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2:10). Он сказал это, несмотря на то что в Библии ясно написано: «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:7). Разве Иов был прав, приписывая Богу то, что сделал сатана? Да, потому что сразу после слов Иова в Библии говорится: «Во всем этом не согрешил Иов устами своими» (Иов. 2:10).
Бог позволяет сатане причинять людям зло. Поэтому Иов прав, когда исповедует, что оно полностью вышло из руки Божьей. Если мы приписываем сатане (или грешному человеку) такую власть, которая разрушает Божий замысел, мы поступаем вопреки учению Библии.
Кто задумал убийство Христа?
Распятие Христа лучше всего подтверждает, что даже нравственное зло не выходит за рамки Божьего замысла. Кто в действительности станет отрицать, что Иуда, предав Христа, совершил злой поступок, с точки зрения нравственности?
Однако Петр говорит: «Сего [Иисуса], по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Предательство – это грех. Но он был частью заранее определенного Божьего плана. Грех не расстраивает Его замысел и не противится Его руке.
Или же кто скажет, что презрение Ирода (Лк. 23:11), греховная выгода Пилата (Лк. 23:24), крики иудеев «Распни Его! Распни!» (Лк. 23:21) или, наконец, насмешки солдат-язычников (Лк. 23:36) не были греховными? Но Лука в Деяниях рассказывает нам о молитве святых:
Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой (Деян. 4:27,28).
Люди восстают против Всевышнего только для того, чтобы обнаружить, что их восстание неосознанно служит исполнению чудесных замыслов Божьих. Даже грех не может разрушить цели Всевышнего. Сам Он не совершает грех. Однако Он установил, что некоторые действия в мире будут греховными. Таким образом, действия Пилата и Ирода были предопределены в Божьем замысле.
Бог направляет куда хочет
Подобным же образом, доходя до конца Нового Завета и до конца истории, описанной в Откровении Иоанна, мы обнаруживаем, что Бог контролирует всех злых царей, ведущих войну. В своей книге Иоанн описывает блудницу, восседающую на звере с десятью рогами. Блудница – это Рим, напоенный кровью святых. Зверь – это антихрист, а десять рогов – это десять царей, которые «передадут силу и власть свою зверю… [и] будут вести брань с Агнцем» (Отк. 17:13,14).
Но разве эти злые цари находятся вне Божьего контроля? Разве они расстраивают Его замысел? Едва ли. Сами того не осознавая, они исполняют Его приказание. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Отк. 17:17). Никто на земле не может избежать суверенного Божьего контроля: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Прит. 21:1; ср.: Езд. 6:22).
Злые намерения людей не могут расстроить Божьи установления. В этом заключена суть истории падения и возвеличивания Иосифа в Египте. Братья Иосифа продали его в рабство. Жена Потифара оклеветала его, и это привело к тому, что его бросили в подземелье. Главный виночерпий фараона забыл о нем на два года. Где же был Бог, когда совершалось все это зло? Иосиф говорит об этом своим братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20).
Непослушание и окаменелость сердца людей приводит не к разрушению Божьего плана, а, наоборот, к его реализации.
Задумайтесь о том, что говорит Павел об огрубелости сердца: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется» (Рим. 11:25,26). Кто управляет тем ожесточением сердца, которое случилось в Израиле, так что оно имеет определенные границы, и кто, когда подойдет назначенное время, откроет путь для спасения «всему Израилю»?
Или давайте подумаем о непослушании, о котором говорит Павел в другом месте Послания к Римлянам. Он говорит язычникам о непослушании Израиля, когда тот отверг своего Мессию: «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы» (Рим. 11:31). Когда Павел говорит о том, что непослушание Израиля дает язычникам возможность обрести благословения Евангелия, какой замысел он имеет в виду?
Это может быть только Божий замысел. Ибо, разумеется, Израиль вовсе не рассматривал свое непослушание как способ благословения язычников; и вряд ли иудеи верили, что таким окольным путем можно самим обрести милость. В таком случае, разве не доказывают слова Павла в Рим. 11:31, что Бог контролирует непослушание Израиля, направляя его именно к тому, что Он заранее определил?
Не существует случайного стечения обстоятельств
Божий суверенитет над человеческими делами не допускает компромисса даже в реальности греха и зла, которые существуют в этом мире. Этот суверенитет не ограничен добрыми делами людей или радостными событиями, происходящими в природе. Ветер может успокаивать, а может и разрушать. Но в любом случае он – от Господа.
Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих (Пс. 134:5–7).
В конечном счете, всякий должен прийти к единственно правильному заключению, что если на небесах есть Бог, то не существует случайного стечения обстоятельств, даже если это касается самых незначительных событий жизни. «В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа» (Прит. 16:33). Ни одна птица «не упадет на землю без воли Отца вашего» (Мф. 10:29).
Борьба и решение Джонатана Эдвардса
Как Бог может быть счастлив и производить бедствия одновременно?
Подумаем о том, что Он способен смотреть на мир через две линзы.
Глядя через собирающую линзу, Он печалится и гневается из-за греха и боли.
Глядя через рассеивающую линзу, Он видит зло в его связи с извечными замыслами.
Реальность схожа с мозаикой.
Сами по себе части могут быть уродливыми, но собранное из них целое – прекрасно.
Многие из нас прошли через период глубокой борьбы с учением о Божьем суверенитете. Если мы соединим свое сердце с исповедуемыми нами доктринами, они могут стать причиной эмоциональных встрясок и бессонных ночей. Это намного лучше, чем на академическом уровне забавляться теми мыслями, которые никогда не касаются нашей личной жизни. Существует, по крайней мере, возможность понять, что вслед за встряской придет время покоя и уверенности.
Так произошло со многими из нас. Так произошло и с Джонатаном Эдвардсом. Эдвардс был пастором и серьезным богословом в Новой Англии в начале XVIII в. Он был руководителем первого Великого пробуждения. Его главные богословские труды по-прежнему бросают вызов величайшим умам наших дней. Благодаря экстраординарной комбинации логики и любви он стал писателем, который до глубины души трогает своего читателя. Вновь и вновь, когда я ослабеваю и чувствую сухость в своей жизни, я снимаю с полки собрание сочинений Эдвардса, чтобы испытать волнение от одной из его проповедей.
Он описывает ту борьбу с учением о Божьем суверенитете, которую испытал сам:
С детства у меня были тысячи возражений на учение о Божьем суверенитете… Эта доктрина представала передо мной в каком-то жутком виде. Но хорошо помню то время, когда я пришел к убеждению в отношении Божьего суверенитета и более не сомневался…
Но я бы никогда не смог дать отчета в том, как или благодаря чему я пришел к такому убеждению, ничуть не предполагая ни тогда, ни спустя долгое время, что существовало некое экстраординарное действие Святого Духа; но только сейчас я увидел и мой разум понял всю справедливость и разумность этого учения. Мой разум успокоился в нем, и это положило конец всем недостаткам и возражениям.
С того дня и по сей день в моем разуме происходили чудесные перемены в отношении учения о Божьем суверенитете, так что у меня просто недоставало порой аргументов против него, в самом абсолютном смысле этого слова… Впоследствии у меня часто было не просто убеждение, а восхитительное убеждение. Учение очень часто представало в весьма приятных, радостных и светлых тонах. Я с любовью приписываю Богу такое качество, как абсолютная суверенность. Однако мое первое убеждение не было таковым[13].
Не стоит удивляться, что Джонатан Эдвардс искренно и серьезно боролся с той проблемой, которая сейчас стоит перед нами. Как мы можем на основании Его суверенности утверждать, что Бог счастлив, если большинство из того, что Бог допускает в мире, противоречит Его собственным заповедям, изложенным в Писании? Как мы можем говорить, что Бог счастлив, когда в мире столько греха и несчастья?
Эдвардс не претендовал на то, чтобы раскрыть эту тайну. Но он помогает нам найти способ избежать открытых противоречий, оставаясь верным учению Писания. Перефразируя Эдвардса, можно сказать следующее: божественный разум настолько сложен и безграничен, что у Бога есть способность смотреть на мир через две линзы. Он может смотреть через собирающую и через рассеивающую линзы.
Когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через собирающую линзу, Он видит трагедию или грех такими, какие они есть по сути, и из-за этого Он печалится и гневается. «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь – и живите!» (Иез. 18:32).
Но когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через рассеивающую линзу, Он видит трагедию или грех в их связи с тем, что предшествует им и что вытекает из них. Он видит их вместе со всеми связями и следствиями, которые формируют узор или мозаику, растянутую в вечность. Эта мозаика во всех своих частях – благих и злых – радует Его[14].
«Но Господу угодно было поразить Его»
Бог желал распятия Своего Сына.
Он ненавидел грех и боль (сквозь собирающую линзу).
Он радовался покрытию греха и побеждающему смерть послушанию (сквозь рассеивающую линзу).
Поэтому оно сопровождалось грехом и болью.
Печальное само по себе, это событие не разрушает Его замысел и не лишает Его глубочайшей радости.
Например, смерть Христа была волей и действием Бога-Отца. Исаия пишет: «Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. <…> Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53:4,10). Разумеется, когда Бог-Отец видел страдания Своего возлюбленного Сына, равно как и ту злость, которая пригвоздила Его к кресту, Он не радовался этому факту как таковому (рассматриваемому сквозь собирающую линзу). Грех сам по себе и страдания невинного ненавистны Богу.
Тем не менее, как написано в Евр. 2:10, Вождя нашего спасения Бог-Отец «совершил чрез страдания». Бог желал то, что ненавидел. Он ненавидел это, глядя именно через собирающую линзу, а не через рассеивающую линзу вечности. В контексте всеобщности вещей, Бог-Отец видит в смерти Сына Божьего возвышенный способ продемонстрировать Свою праведность (Рим. 3:25,26) и ввести Свой народ в славу (Евр. 2:10), чтобы ангелы не переставали прославлять Его (Отк. 5:9–13).
Поэтому, когда я говорю, что суверенитет Божий – это основание Его счастья, я вовсе не игнорирую и не умаляю гнев и печаль, которые Бог выказывает против зла. Но из этого гнева и печали я также не делаю вывода, что Бог – это разочарованный Бог, Который не может контролировать Свое творение. Он определил все от вечности и безошибочно создает из каждого события в мире возвышенную мозаику искупительной истории[15]. Созерцание этой мозаики (как со светлой, так и с темной стороны) наполняет Его сердце радостью.
И если сердце нашего Отца полно глубочайшего счастья, мы можем быть уверены, что когда мы ищем счастья в Нем, то, придя к Нему, не найдем Его «не в настроении». Он не будет разочарован, печален и раздражителен, не будет выказывать желание остаться в одиночестве. Напротив, мы найдем Отца, сердце Которого наполнено радостью до такой степени, что этого достаточно для всех жаждущих (т. е. христианских гедонистов).
Божье счастье заключено в Нем Самом
Бог применяет Свою суверенную власть для того, чтобы продемонстрировать величайший объект Своей радости – Свою СЛАВУ, красоту Своих многочисленных совершенств.
Все, что Он делает, Он делает для того, чтобы возвеличить достоинство Своей славы.
Он поступал бы неправедно, если бы ценил что-либо больше самой высокой ценности, а именно больше Самого Себя.
Основанием для христианского гедонизма, как уже было показано ранее, служит тот факт, что Сам Бог превыше Своих чувств:
Основное предназначение Бога – Его прославление и вечная радость в Себе Самом.
До сих пор мы видели, что Бог абсолютно суверенен и поэтому может делать все, что хочет. Он не разочарованный Бог, но, напротив, глубоко счастливый Бог, получающий радость ото всех Своих дел (Пс. 103:31), ибо Он видит их во взаимосвязи со всей искупительной историей.
Нерассмотренным остался вопрос о том, каким образом это непоколебимое счастье Бога есть в действительности счастье в Нем Самом. Мы уже поняли, что Бог обладает суверенной властью делать все, что Ему угодно. Однако мы не показали еще детальным образом, что же именно Ему угодно. Почему созерцание мозаики искупительной истории так радует Бога? Разве не будет для Бога идолопоклонством радоваться чему-либо вне Себя Самого?
Поэтому нам следует задать вопрос: что делает Бога счастливым; т. е. что можно сказать о той искупительной истории, которая радует Бога? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, какую цель ставит перед Собой Бог, совершая все Свои дела. Если мы уясним это, то узнаем, что радует Его более всего. Мы узнаем, какое из Его чувств занимает главенствующее положение.
Бог наслаждается Своей славой
В Приложении 1 я кратко рассматриваю ключевые положения истории искупления для того, чтобы выявить главную цель Бога во всех Его действиях. Если последующие рассуждения в этой главе покажутся кому-нибудь не соответствующими учению Писания, я советую обратиться к дополнительному материалу в этом приложении.
Вывод, который я делаю в приложении, заключается в том, что среди всех Божьих чувств главенствующее положение занимает Его слава. Цель всех Его действий – сохранить и выявить эту славу. Но какой смысл мы вкладываем в свои слова, когда говорим, что среди всех Божьих чувств слава занимает главенствующее положение? Смысл заключается в следующем: Бог придает Своей славе наибольшее значение по сравнению со всеми остальными Его чувствами. Бог наслаждается Своей славой больше, чем всем остальным.
Весьма затруднительно дать определение славы. Слава подобна красоте. Какое бы определение вы дали красоте? На что-то нам легче указать, нежели пытаться определить. Но я постараюсь сделать это. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме. Или же она может относиться к безгранично-совершенным нравственным качествам Его личности. В любом случае она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. В определении славы нам помогает К. С. Льюис:
Природа никогда не учила меня, что существует Бог славы и безграничного величия. Я должен был узнать об этом из других источников. Однако природа придала слову «слава» смысл, понятный для меня. До сих пор не знаю, где бы еще я мог найти этот смысл. Не уверен, имело бы выражение «страх Господень» для меня какой-либо смысл кроме продиктованных простым благоразумием попыток спастись, если я бы никогда не увидел тех грозных ущелий и неприступных скал[16].
Отсюда можно заключить, что главная цель Бога – сохранить и выявить Свое безграничное и необычайное величие и достоинство, т. е. Свою славу.
У Бога, разумеется, есть и другие цели в том, что Он делает. Однако нет ни одной из них, которая превалировала бы над вышеназванной. Все другие цели подчиняются этой главной цели. Например, непомерные страдания Бога были предназначены для того, чтобы возвеличить ценность Его славы. Он стремится выявить ее для того, чтобы противостать всем тем, кто преуменьшает ее, и защитить ее от всякого презрения. Очевидно, что она занимает главенствующее положение среди всех остальных Божьих качеств. Он безгранично любит Свою славу.
Это можно сказать и иначе: Бог безгранично любит Себя. Или по-другому: Сам Бог превыше всех Своих качеств. Если мы даже на короткий отрезок времени задумаемся об этом, мы поймем всю справедливость этого факта. Бог был бы неправедным (так же как неправедны все мы), если бы ценил что-либо больше того, что воистину представляет собой самую главную ценность. Но самая главная ценность – это Он Сам. Если бы Он не получал безграничное удовольствие от достоинства Своей собственной славы, Он был бы неправедным. Ибо справедливость требует, чтобы мы получали от других людей удовольствие пропорционально тому, насколько велика слава этих людей.
Бог восхищается славой Своего Сына
«Христос есть сияние славы и образ ипостаси Бога»[17]. Поэтому Отец безгранично восхищается Своим Сыном.
«Небеса проповедуют славу Божию»[18]. Поэтому Бог восхищается творением как расширением того изобилия, которое Он имеет ради Своего превосходства.
Подумав еще немного над мыслью, высказанной нами в предыдущем абзаце, мы вспомним, что она в точности соответствует нашей вере в божественность Сына Божьего. Когда дело касается именно этих аспектов нашего исповедания, мы останавливаемся перед дверью, ведущей в глубины неисчерпаемой тайны. Однако Писание открыло нам некоторые из этих сокрытых тайн. Оно учит нас, что Сын Божий есть воистину Бог: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). «В Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).
Поэтому Отец, созерцая Своего Сына от вечности, видел в Нем Свой образ. Об этом написано в Послании к Евреям, когда говорится, что Сын – это «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр. 1:3). В другом месте то же самое утверждается о славе Христовой, которая «есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4).
Из этих отрывков видно, что от вечности Бог-Отец имел перед Собой образ Своей славы, совершенным образом отражающийся в личности Своего Сына. Поэтому одним из лучших способов, объясняющих Божье безграничное наслаждение Своей славой, может стать следующая мысль: Бог восхищается славой Своего Сына, Который совершеннейшим образом отражает эту славу (см.: Ин. 17:24–26).
Когда Христос пришел в наш мир, Бог-Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Когда Бог-Отец созерцает образ Своей славы в личности Своего собственного Сына, Он безгранично радуется этому. Через пророка Исаию Он говорит: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя» (Ис. 42:1).
Внутри божественного триединства (Отец, Сын и Святой Дух) Бог от вечности занимает главенствующее положение надо всеми Своими чувствами. Это касается самой Его природы, ибо Он от вечности родил и возлюбил Своего Сына. Поэтому Бог в высшей степени и вечно радуется тому общению, которое существует внутри Троицы[19].
Бог наслаждается славой Своих дел
В творении Бог «публично проявил»[20] ту славу, которую Отец и Сын с радостью отдают друг другу! В этой полноте Божьей радости есть что-то, побуждающее эту радость выходить за свои пределы. Его славе присуще всеобъемлющее свойство. Она желает поделиться собой. Причина, по которой Бог сотворил мир, состояла не в слабости, словно бы Ему недоставало каких-то совершенств, которые могли бы быть дополнены творением. «Нельзя принять довод о пустоте или недостатке источника, который бы кто-то извне побуждал выходить за свои пределы»[21].
Богу нравится созерцать Свою красоту, отражающуюся в Его собственных делах. Поэтому вечная радость триединого Бога избыточествует в делах творения и искупления. И поскольку первоначально Бог получал наслаждение от Своей собственной славы, то наслаждение, которое Он получает от Своих дел творения и искупления, есть не что иное, как наслаждение Своей славой. Вот почему Бог с момента сотворения этого мира вплоть до момента окончательного его завершения совершает все ради сохранения и выявления Своей славы. Все Божьи дела – это просто излияние безграничного изобилия Его превосходства.
Бог – для нас или для Себя?
Бог творит все ради Себя Самого. «Ради Себя, ради Себя Самого делаю это… славы Моей не дам иному»[22].
В том любовь, чтобы, добиваясь прославления Своего имени в сердцах Своего народа, Он требовал именно то, что восполняет нашу радость.
Бог – единственный во всей вселенной, для Которого прославление Самого Себя – это наивысшая добродетель и деяние, выявляющее истинную любовь.
Теперь перед нами встают следующие вопросы: если Бог столь явно восхищается Своей славой, то как Он может быть Богом любви? Если Он делает все исключительно ради Себя Самого, как мы можем быть уверены в том, что Он сделает что-нибудь для нас? Разве апостол не говорит, что любовь «не ищет своего» (1 Кор. 13:5)?
Отсюда мы видим, каким образом учение о Божьем счастье поддерживает или же, напротив, разрушает философию христианского гедонизма. Если Бог настолько сконцентрирован на Самом Себе, что ни в коей мере не склонен любить Свои творения, то христианский гедонизм можно похоронить. Христианский гедонизм зависит от распростертых Божьих рук, Его готовности принять, спасти и насытить сердца всех тех, кто ищет в Нем свою радость. Но если Бог самолюбив и вне нашей досягаемости, тогда наши поиски своего счастья в Нем тщетны.
Бог – для нас или для Себя? Ответив с предельной точностью на этот вопрос, мы обнаружим непоколебимое основание для христианского гедонизма.
Бог руководит нашей хвалой напрасно или с любовью?
Библия изобилует заповедями прославлять Бога. Они даны нам по той причине, что хвала – это конечная цель всех Его деяний: «Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших» (2 Фес. 1:10). В Послании к Ефесянам об этой цели говорится три раза: Бог в любви предопределил «усыновить нас Себе… в похвалу славы благодати Своей» (Еф. 1:4–6); «в Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому… дабы послужить к похвале славы Его» (Еф. 1:11,12); Святой Дух – это «залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:14).
Различные способы, выбранные Господом для проявления Своей славы в творении и искуплении, достигают своей кульминации в хвале, возносимой Богу избранным Им народом. Бог управляет этим миром в Своей славе именно для того, чтобы получить обратно честь, восхищение, славу и прославление. Вершина Его счастья – это испытываемое Им наслаждение в тех отголосках Своего превосходства, которые слышны в славословии святых.
Однако я многократно встречался с такими ситуациями, когда эта истина становилась для людей камнем преткновения. Мы говорим им, что Бог превыше и важнее Своих чувств, Он совершает все для Своей славы, Он прославляет Себя и ищет славы человеческой. Однако люди не хотят слышать этого.
Почему? Думаю, есть, по крайней мере, два объяснения этого феномена. Во-первых, мы сами не любим людей, подобных тому образу, который мы приписываем Богу. Во-вторых, не быть таковыми учит нас и Библия. Попытаемся детально рассмотреть эти возражения, чтобы решить, подходят ли они к Богу.
Имеет ли Бог отношение к «секондхэндовцам»?
Итак, первое возражение: мы сами не любим людей, которые в восторге от своего интеллекта, силы, мастерства, хорошего вида или здоровья. Нам не нравятся ученые-школяры, пытающиеся блеснуть необычайными познаниями в своей области и перечисляющие нам все свои труды. Нам не нравятся бизнесмены, которые рассказывают о том, как удачно они вложили свои деньги и как долго они находились на самой вершине продаж, играя на понижение или на повышение, и все благодаря своей проницательности. Мы не любим детей, которые ставят себя выше других детей (мое больше, мое быстрее, мое красивее!). И до тех пор пока мы не одни из них, мы не одобряем тех, кто не носит простую одежду, а одевается по последней моде, чтобы привлечь к себе наше внимание.
Почему мы не любим всего этого? Суть нашей неприязни, как мне представляется, заключается в том, что подобные люди скрывают свою подлинную жизнь. Они, по выражению Айана Ранда, «секондхэндовцы». Они не живут той радостью, которая появляется в результате достижения чего-то, что они ценят ради него самого. Напротив, они живут, заимствуя комплименты у других людей. Одним глазом они смотрят на себя, а другим – на публику. Мы не восхищаемся такими людьми. Наоборот, мы восторгаемся теми, кто достаточно спокоен и сдержан, чтобы не нуждаться в прикрытии своих слабостей и не компенсировать свои недостатки комплиментами других людей.
Всякому здравомыслящему человеку понятно, что любое учение, относящее Бога к категории таких людей, неприемлемо для христиан. Учение же о том, что Бог стремится к тому, чтобы выказать Свою славу и получить хвалу от людей, многим кажется именно таким. Но так ли это в действительности?
Одно можно сказать точно: у Бога нет слабостей или недостатков. «Все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11:36). Бог «не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 17:25). Все существующее обязано своим существованием Ему. Нельзя добавить к Нему то, что не имело бы уже своего происхождения от Него. Поэтому усердие, с которым Бог добивается Своей славы от людей, нельзя приписывать Его потребности в укреплении слабостей и восполнении каких-либо недостатков. Может показаться, что Он выглядит так же, как «секондхэндовцы». Но Он не один из них. Это поверхностное сходство нужно объяснить по-другому.
«Любовь не ищет своего» – за исключением радости других
Правила смирения, относящиеся к творению, нельзя прилагать тем же самым образом к Творцу.
Абсолютное отречение от Самого Себя стало бы для Бога идолопоклонством.
Утверждая Свою собственную славу, Он утверждает основание нашей радости.
Это и есть любовь.
Вторая причина, по которой учение о том, что Бог возвеличивает Свою славу и ищет человеческой славы, становится камнем преткновения для людей, заключается в следующем: Библия, дескать, не учит нас чему-либо подобному. Например, в Слове Божьем написано: «Любовь не ищет своего» (1 Кор. 13:5). Как Бог может любить и в то же самое время целиком отдать Себя «поиску Своей» славы, хвалы и радости? Может ли Бог быть полезен нам, если Он целиком предан Себе?
Я предлагаю следующий ответ: поскольку Бог в высшей степени великолепен и целиком самодостаточен, Он должен существовать и для Себя, если Он существует для нас. Правила смирения, относящиеся к творению, нельзя прилагать к Творцу. Если Бог отвернется от Себя – Источника вечной радости, – Он перестанет быть Богом. Он откажется от беспредельного достоинства Своей славы. Этим Он подчеркнет, что в мире есть что-то более ценное, чем Он Сам. И Он тем самым совершит идолопоклонство.
Такое положение не принесет нам ничего. Ведь куда мы пойдем, если наш Бог стал неправедным? Найдем ли мы во всей вселенной Скалу подлинной чистоты, если Бог перестанет ценить превыше всего абсолютную ценность? Кому мы воздадим наше поклонение, если Сам Бог откажется от провозглашения бесконечной красоты и безмерного достоинства?
Нет, мы не превращаем Божье возвеличивание Самого Себя в любовь, требуя, чтобы Он перестал быть Богом. Вместо этого, нам нужно понять главное: Бог – это любовь только потому, что Он упорно добивается, чтобы люди воздали славу Его имени.
11
Для более полной защиты Божьего суверенитета во всем, что Он делает, см.: John Piper, The Pleasures of God: Meditations on God’s Delight in Being God (Sisters, OR: Multnomah Books, 1991), pp. 47–78, 123–160; and The Justification of God: An Exegetical and Theological Study of Romans 9:1–23 (Grand Rapids: Baker Book House, 1993).
12
Прит. 16:33.
13
“Personal Narrative”, Jonathan Edwards: Representative Selections, eds. C. H. Faust, T. H. Johnson (New York: Hill and Wang, 1962), pp. 58, 59.
14
Эдвардс трактовал эту проблему, различая два вида желаний в Боге (которые подразумеваются в том, что я сказал). Божья «господствующая воля» (явленная воля) состоит в том, что Он заповедует в Писании (напр., «не убий»). Божья «определяющая воля» (или сокрытая, суверенная воля) состоит в том, что Он непогрешимо осуществляет в этом мире. Объяснения Эдвардса сложны, но они достойны наших усилий, если мы любим размышлять о Боге очень серьезно:
Когда проводится разграничение между явленной и сокрытой волей Божьей, или между волей господствующей и определяющей, «воля» при таком разграничении понимается, разумеется, двояко. Его определяющая воля не есть воля в том же самом смысле, что и господствующая воля. Поэтому вовсе не трудно допустить, что одна из них может быть противоположна другой: Его воля в обоих смыслах – это Его предпочтение. Когда мы говорим, что Он желает добродетели, или любит добродетель, или желает, чтобы его творение было счастливо, предполагается, что добродетель или счастье Его творений, абсолютно и несложно рассматриваемые, находятся в согласии с предпочтением Его природы.
Его определяющая воля – это Его предпочтение того, что, не будучи абсолютным и несложным, а универсальным, было, есть и будет. Поэтому Бог, ненавидя вещь в ее абсолютности, может предпочесть ее в связи с ее универсальностью. Хотя Бог ненавидит грех как таковой, Он может в согласии со Своей волей допустить его для того, чтобы еще больше содействовать святости в этой всеобщности, включая все вещи и все периоды времени. Поэтому, хотя у Него нет предпочтения к человеческому страданию, рассматриваемому абсолютно, Он может желать его, чтобы еще больше содействовать святости в этой всеобщности.
“Concerning the Divine Decrees”, The Works of Jonathan Edwards, vol. 2 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1974), pp. 527, 528.
15
Термин «искупительная история» всего лишь относится к истории Божьих деяний, записанных в Библии. Такая история называется искупительной, потому что рассматривается с точки зрения Божьего искупительного замысла, и ни в коей мере не считается не подлинной.
16
Quoted from The Four Loves, in A Mind Awake: An Anthology of C. S. Lewis, ed. Clyde Kilby (New York: Harcourt, Brace and World, 1968), p. 202.
17
Евр. 1:3.
18
Пс. 18:2.
19
Если кто-либо спросит, какое место в таком понимании Троицы отводится Святому Духу, я обращу его внимание на две работы Джонатана Эдвардса: «Трактат о благодати» и «Эссе о Троице». Он суммирует свое понимание Троицы в следующих словах:
Вот какова та благословенная Троица, о которой мы читаем в Священном Писании. Отец – это божество, существующее в изначальном, нетварном и абсолютном образе действий, или, по-другому, божество в своем непосредственном существовании. Сын – это божество, рожденное мыслью Отца, или, по-другому, имеющее Свой образ и существующее в этом образе. Святой Дух – это божество, существующее в действии и проистекающее в божественную безграничную любовь и божественную радость в Себе Самом. И я верю, что вся божественная сущность истинно и различимо существует и в божественной мысли, и в божественной любви, и что каждая из них – действительно отличная от других ипостась.
“An Essay on the Trinity”, Treatise on Grace and Other Posthumously Published Writings, ed. Paul Helm (Cambridge: James Clarke and Co., 1971), p. 118.
Другими словами, Святой Дух – это радость, которую разделяют Отец и Сын друг с другом.
Поэтому Святой Дух некоторым неописуемым и необъяснимым способом происходит от Отца и от Сына; божественной сущностью Он целиком проистекает в такую бесконечно глубокую, святую и чистую любовь и радость, которая постоянно и неизменно изливается от Отца и от Сына, прежде всего друг на друга, а потом и на все творение. Он истекает в особое существование или отдельную ипостась таким способом, который нам полностью непонятен. Эта ипостась изливается в сердца ангелов и святых.
“Treatise on Grace”, Treatise on Grace and Other Posthumously Published Writings, p. 63.
20
Я взял эту фразу из книги Даньела Фуллера: Daniel Fuller, The Unity of the Bible: Unfolding God’s Plan for Humanity (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992). См. особенно гл. 8 и 9.
21
“Dissertation Concerning the End for Which God Created the World”, The Works of Jonathan Edwards, vol. 1, p. 102. Эта диссертация имеет огромную ценность для разрешения вопросов, связанных с Божьим замыслом в истории.
22
Ис. 48:11.