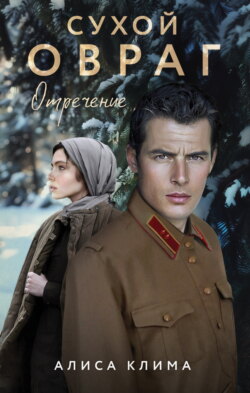Читать книгу Сухой овраг. Отречение - - Страница 3
Глава 2
ОглавлениеЗал разрывался от хохота: заключенные пели частушки. Ирина видела, как весело улыбался Ларионов, как до слез смеялась охра.
Получила Клавка пайку:
Только собралась поесть,
А Инесса ей мешает —
Просит арии пропеть!
Самара городок, беспокойная я-а,
Беспокойная я-а, успокой ты меня!
Борода у Кузьмича,
Ой, седая до колен.
А он все на девок смотрит,
Неуемный старый хрен!
Самара городок, беспокойная я-а,
Беспокойная я-а, успокой ты меня!
Каждый день мы валим лес:
Сердце надрывается-а.
Полтайги уж повали-или,
А стройка не кончается!
Самара городок, беспокойная я-а,
Беспокойная я-а, успокой ты меня!
С охрой стройно ходим в лес,
Отморозили зады.
Шаг нельзя ступить за куст
Для справления нужды!
Самара городок, беспокойная я-а,
Беспокойная я-а, успокой ты меня!
Приглянулся мне майор,
Сердце в страсти плавится-а.
А он смотрит на другую,
Хоть и не красавица!
Самара городок, беспокойная я-а,
Беспокойная я-а, успокой ты меня!
Ирина покраснела и заметила смущенную улыбку Ларионова. Ее охватила радость. Она с удивлением поняла, что, если бы не ощущение несвободы; если бы не лишения, голод и холод; если бы не постоянная угроза для жизни, она была бы счастлива среди этих людей. Но она и была счастлива от близости к этой народной мудрости и способности в самые страшные времена сохранять тепло и самоиронию. Она больше не могла делить людей на богатых и бедных, образованных и необразованных; не могла разделять их по религии, полу или цвету кожи. Они все были равны перед лицом смерти, и выживали они тоже вместе. Чувства любви и сопричастности вытеснили из нее все прежние домыслы. Люди были нужны ей так же, как им была нужна она. Никогда Ирина не была более полезной и, как всякий деятельный от природы человек, только наполнялась силами от этого ощущения единения и созидания.
Ирина смотрела на Ларионова, его уже привычное лицо и вспоминала нежность, с которой он порой глядел на нее. Как ей всего этого не хватало в течение последних недель. Она скучала по нему! Ирине нестерпимо захотелось всецело открыться; рассказать то, что она так долго держала внутри; довериться ему. Она окончательно решила, что должна поговорить с ним после концерта. Это неожиданное решение вдруг сделало ее легкой как перышко. Как было замечательно признать правду о себе и не бояться ее больше!
Ирина так замечталась, что забыла, что подошло время ее выступления. Она уже переоделась в свое красное платье в мелкий цветочек, взяла гитару и перебрала струны. Она чувствовала, как у нее подкашиваются ноги и дрожат руки. Как же ей играть и петь? Она повернулась к Клавке.
– Клава, как я?
Клавка взяла Ирину за плечи.
– По правде сказать, баба ты красивая! – одобрительно улыбнулась Клавка. – Гляди, Ирка, совсем с ума сведешь нашего майора!
– Ох, и глупая ж ты, Клавдия! – засмеялась Ирина, все еще терзаемая мыслями о вчерашнем вечере и его решимости уехать.
– Глупая, зато дело толкую!
– Клава, – призналась Ирина, – я сильно волнуюсь.
Клавка залезла за занавес и вытащила оттуда фляжку с самогонкой, припасенной ею заранее «для куражу».
– Ну-ка, хлебни, через минуту тебя можно будет в бой вести!
Ирина хлебнула – и много; внутри все горело. Она почувствовала, как действительно через минуту тепло уже охватило все ее тело, и дрожь прошла. Клавка подмигнула.
Частушечники ушли за кулисы под отчаянные аплодисменты, улюлюканья и громкий протяжный свист. Ирина вышла на сцену с гитарой и села на табурет, поставленный для нее Кузьмичом. Она не могла смотреть на Ларионова и все еще чувствовала, как багровеет от смущения.
– Эту песню я сочинила на этапе, – сказала она робко.
– Иришка, спой от души! – крикнул кто-то из мужиков в зале.
Ирина стала перебирать струны, привыкая к гитаре и настраивая ее. Она смотрела на свои обветренные руки с обломанными, неопрятными ногтями, но мысли ее были уже далеко. Она никогда не была так счастлива, как теперь. Ирина мечтала на этапе донести эти стихи до того, кому они будут понятны, и это стало возможно. Неважно было теперь, каков будет исход ее судьбы в лагере. Она чувствовала, что сейчас происходит важнейшее в ее жизни.
Колеса стучат, сообщая мне срок
Разрыва с тобой без возврата.
Откуда, скажи, этот выпал нам рок?
Чуть-чуть – и захлопнутся врата
За мной. А где ты? Смотришь ли в небеса?
Там птицы, рассвет обгоняя,
Домой прилетят, и весны голоса
Я с ними тебе отправляю.
А где-то осталась былая весна,
И я тебя в ней вспоминаю.
А мне эта комната стала тесна…
А мне эта комната стала тесна…
Я имя свое забываю.
Как сложно порою счастье догнать:
Мой поезд, ты медленный очень.
Усну на коленях чьих-то опять
И вспомню тебя между прочим.
А крыша вагона исчезнет на миг,
И будет лишь ясное небо.
Но в нем Михаила испытанный лик
Пророчит нам порцию хлеба.
Забыты свобода и ты вместе с ней,
Как это холодное лето.
До дна эту чашу ты выпить успей.
До дна эту чашу ты выпить успей.
И выброси в снег ее где-то.
Из осени в зиму умчат поезда:
Погода судьбе – не помеха.
В окошко сквозь дымку светит звезда,
Как в жизни последняя веха.
Качает вагон, как мать колыбель,
Чтоб дети забыли о боли.
Но уж за окном мохнатая ель…
Мы тщетно мечтали о воле.
А где-то твой запах и бережность рук
Остались со мной незабвенно.
Ты ходишь по свету, любимый мой друг.
Ты ходишь по свету, любимый мой друг!
Ты ходишь по свету, любимый мой друг…
Я где-то исчезну, наверно… наверно… наверно…
Последние переборы затихли, и в зале тоже было тихо. Ирина решилась взглянуть на заключенных, потом не сдержалась и посмотрела на Ларионова. Он сидел, опустив глаза, и казался напряженным.
Ирина заметила только сейчас в дальнем ряду Анисью. Она плохо видела ее лицо, но ей показалось, что оно было заплакано, и подумала, что следует узнать у Анисьи, что произошло. Когда вернулся Грязлов, Ирина тоже не заметила. Он теперь сидел недалеко от входа чуть позади Ларионова, а не на первом ряду.
– Ирин, спой еще про любовь! – просили женщины из зала.
Ирина задумалась. Ларионов не поднимал глаз. На лице промелькнула грустная улыбка. Тонкие обветренные пальцы, немного дрожа, стали перебирать струны, но на этот раз она смотрела на Ларионова. И тихо, словно разговаривая с самой собой, запела:
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?
Головой склоняясь до самого тына…
Она видела, как он поднял на нее взгляд; как глаза его в мучительной тоске и вопросах рыскали по ее лицу. А она пела; пела для него, невзирая на спазм и дрожь в голосе. Он смотрел на ее исхудалое лицо, на котором выделялись скулы и темные брови; ее большие раскосые глаза сверкали от слез, отражая свет. Его охватили волнение и одновременно ужас. Он почувствовал, что начал задыхаться.
Дверь в зал резко распахнулась, вбежали охранники:
– Первый барак горит! Пожар! Барак горит!
Ирина отложила гитару и вскочила. Ларионов мгновенно бросился из зала, за ним повалила и толпа. Поднялись крик, суматоха и давка, в которых охра пыталась разбить толпу и взять под конвой, но люди уже хлынули на улицу, и все беспорядочно бежали в сторону пожара.
Издалека было видно, что действительно загорелся первый барак. Заключенные уже носились с ведрами, черпая песок из железных бочек, кто-то таскал снег. Но было очевидно, что эти усилия не помогут справиться с расходившимся быстро пламенем. Кто-то закричал: «Барак закрыт!» Паздеев и Касымов ринулись его отпирать, и из него мгновенно, давя друг друга, стали вылетать люди.
Ирина, Клавка и Инесса Павловна едва смогли пробиться сквозь толпу, обступившую горящий барак. Огонь разрастался. Клавка вдруг крикнула:
– Рябова где?! Рябову забыли!
Ирина подбежала к Ларионову:
– Григорий Александрович, Рябова в бараке!
Ларионов быстро осмотрелся. Никого из охры не было рядом, а рядовые гарнизона еще не подоспели из казармы. Кто-то оттаскивал людей, задыхавшихся от дыма, кто-то исчез в толпе, пытаясь справиться с заключенными, которых стали оттеснять вглубь зоны. Но люди словно вросли в землю и ждали, пока барак догорит. Остальные заключенные бегали с ведрами, чтобы огонь не перекинулся на другие постройки. Было ясно, что первый барак спасти не удастся.
– Охры нет, – сказал Ларионов. – Стой здесь.
– Будет поздно! Так нельзя!
Ларионов посмотрел на нее пристально, поправил фуражку и быстрым шагом направился к бараку, закрываясь какой-то тряпкой, сорванной им по пути с одной из женщин.
– Куда вы?! Стойте! Стойте!
Но он уже исчез в дыму, то вырывавшемся из ворот барака, то потом пропадавшем. Ирина замерла в бессильной позе, зажав рот рукой.
Ирине казалось, что прошло много времени, но на самом деле прошло лишь несколько минут, и Ларионов показался в проеме, вытаскивая Рябову под мышки. Он оттащил ее на несколько метров, прежде чем его увидел Фролов и подбежал на помощь. Рябову поволокли от пожарища в сторону дома Ларионова.
Ирина на мгновение обмякла, но вдруг схватила за руку Инессу Павловну и закричала так, словно у нее вырвали сердце.
– Мне необходимо! – Она рванула в сторону барака.
– Ира, ты куда?! Стой! – воскликнула Инесса Павловна.
Ларионов едва успел ухватить ее за шиворот.
– С ума сошла?! Куда ты?!
Ирина начала кричать. Он удерживал ее за плечи, а она отчаянно вырывалась.
– Прошу вас, прошу!
Она ослабевала и опускалась на снег. Он никогда не видел, чтобы она так отчаянно и горько плакала. Ларионов нагнулся к ней и дрожал.
– Ради бога, скажи мне, что случилось?! Что, черт возьми, ты там прячешь?!
Ирина не могла говорить и захлебывалась.
– Это моя вещь… моя вещь…
– Милая, я куплю тебе миллион вещей! – не выдержал он.
– Нет! Это – моя вещь… Мне нужна только она!
Она сложилась и вздрагивала.
– Моя вещь… – шептала она. – Последнее, что у меня осталось…
Ларионов почувствовал, что горло сдавили слезы.
– Послушай меня. – Он поднял ее со снега. – Я все сделаю для тебя. Ты слышишь? Все сделаю. Где твоя вещь?
Ирина подняла на него глаза, не в силах поверить, что он был готов на это страшное дело.
– Вы найдете мою вещь? – прошептала она.
– Нет времени тянуть, огонь растет! Говори, где она? Под полом вагонки справа?!
– Да! Сшитый ридикюль… – быстро говорила Ирина.
Она не успела закончить, как он исчез в бараке. Паздеев, заметив это, подлетел к Ирине:
– Что случилось? Почему товарищ майор вернулся в барак?!
Ирина сидела на коленях в оцепенении.
– Боже мой! – закричала вдруг она. – Боже мой, кто-нибудь, остановите его!
Клавка и Инесса Павловна бросились к Ирине, а Касымов и Паздеев вошли в барак, но крыша уже начала местами проседать, как верхушка торта, в котором кто-то выел начинку. К пожару прибежало человек тридцать солдат гарнизона. Но что они могли сделать? Барак полыхал…
Ирина закрыла лицо руками. Клавка и Инесса Павловна обнимали ее.
– Как же ты могла? Что ты наделала… – шептала Инесса Павловна.
Ирину охватило отупение. Ей казалось, что время остановилось, мир вокруг и сердце внутри застыли.
Послышался треск. Крыша барака проваливалась окончательно, поднимая столб искр до самой тверди, и Паздеев и Касымов едва успели за секунды до обрушения вытащить за руки Ларионова. Женщины бросились к ним, как встревоженная стая птиц. Охранники уложили Ларионова на снег подальше от огня. Барак резко сложился и горел уже как занебесный костер.
– Сашку зови! – кричал Касымов. – Ожог!
Касымов помчал за Кузьмичом, чтобы тот немедленно запрягал – увозить Ларионова в больницу. Ирина схватилась за голову. Ларионов лежал на снегу, Инесса Павловна осторожно примостила его чело на свернутую телогрейку. Что-то случилось с ним, но в темноте и бликах огня было ничего не разобрать. От него валил то ли дым, то ли пар.
«Это, наверное, ожог, – бессмысленно пронеслось в голове Ирины. – Да, кто-то кричал это слово». Гимнастерка дымилась. Ее прямо на Ларионове тушил Паздеев. К коже прилип мусор, разобрать, где ожог, где сажа, где одежда, было невозможно из-за мглы, мерцании пожара и охватившей всех смуты.
– Лага упала! – слышалось, как Касымов кричал кому-то. – Из-под завала еле вытащили…
Сашка начала срывать с Ларионова гимнастерку, чтобы остановить тепловую реакцию – она все не рвалась. Потом Паздеев с криком разодрал ее. Ларионов приоткрыл глаза. В руке он все еще сжимал грязный от пепелища ридикюль. Он задыхался, откашливался и смотрел на Ирину.
– Зачем? – прохрипел он. – Зачем?
Она в оцепенении трясущимися руками достала что-то из него и медленно поднесла безделицу поближе к глазам майора. То была маленькая брошь с бутонами из цветной глазури. Губы его задрожали, и он издал тихий стон.
– Откуда? Кто ты? Кто ты? – шептал он, дрожа всем телом.
Ирина зажала брошь в руке. Она только тряслась, а потом закрыла лицо кулаками и горько разрыдалась. Ларионов судорожно хватал воздух.
– Вера, – еле выговорил он. – Вера…
Как только он увидел брошь, он все окончательно понял. Потрясение Ларионова было столь сильным, а подступившая после шока боль такой непреодолимой, что он потерял сознание. Его погрузили на сани, и Кузьмич с Сашкой и Паздеевым повезли его в Сухой овраг. Вера шла за санями до ворот, пока охра не остановила заключенных.
После того как обрушилась крыша, барак прогорел в считаные минуты и теперь напоминал огромный, но угасающий костер. Грязлов взял командование лагпунктом в свои руки и велел охре разгонять заключенных по местам под страхом расстрела последних. Люди быстро подчинились, зная, что Грязлов был охоч до расправ. На плацу построили для переклички только заключенных из первого, сгоревшего, барака – остальных поверяли уже внутри.
Грязлов приказал расселить людей из второго барака по другим баракам, а погорельцев разместить во втором. Тут же выдали наряд на неделю по устранению пожарища и построению нового жилища. Файгельмана назначили ответственным за строительство. Комитет оказался полезным образованием и после праздника. Грязлов вызвал членов Комитета на завтра и приказал всем разойтись. Просигналили отбой.
Разместившись под управлением Клавки во втором бараке, женщины тут же начали хозяйничать. Предварительно были распределены все забытые пожитки временно переселенных. Таковы были правила – что упало, то пропало. Клавка, под патронажем которой находились члены Комитета, отвоевала необходимое.
Вера сидела на вагонке, не в силах ни о чем думать. Она была повинна в трагедии. Но сейчас она не могла ничего чувствовать. Все было кончено. Он знал. Она закрыла лицо руками. Сейчас его везли по заснеженной дороге, и было неизвестно, что с ним будет дальше! Если он умрет…
Подруги окружили Веру; Инесса Павловна прижала ее к себе.
– Ира, что он говорил? Что ты ему показала? Я ничего не понимаю.
Вера тихо заплакала. В барак прибежала Федосья.
– Святые угодники! Ей-богу, надо свечку поставить! Что ж это такое – напасть за напастью!
– Каплуна черного резать! – кричала Балаян-Загурская.
Федосья нетерпеливо махнула от усталости рукой.
– Завтра с утра поеду в больницу.
– Возьмите меня с собой! – вскинула голову Вера.
– Это как Грязлов распорядится, теперь он тут главный, пока Григория Александровича не поставят на ноги, – пожала плечами Федосья.
– Он поправится? – тихо спросила Вера, понимая глупость вопроса.
– Куда денется, – уверенно ответила Федосья. – Но Сашка сказала, ожог сильный. Хорошо, весь не сгорел и не задохся. Эх, такой мужик красивый был!
– Был?! – не выдержала Вера.
Федосья вздохнула.
– Хорошо его зацепило, одно, что волосы не сгорели, фуражка пригодилась. А то помню, однажды пожар в деревне случился, а у нас там Прохор был – курчавый такой мужик, ладный. Так тот в пожаре обжегся так, что голова стала как яйко – страсть какой ужас! Да без бровей…
Клавка пихнула Федосью, и та умолкла. Вера опустила глаза. Ее охватила странная слабость, словно хотелось уснуть.
– Только вот в чем вопрос, – процедила Клавка, – какая сука подожгла? И зачем?
Эти вопросы зависли в воздухе. В сумятице никто не подумал об этом. А ведь это мог быть только поджог. Даже если пожар возник из-за буржуйки, во‑первых, в бараке было достаточно женщин, чтобы заметить его и затушить. Во-вторых, пожар вообще не мог начаться внутри, так как слишком сильно занялись внешние стены. Даже притом, что хвоя горела скорее березы и барак был сделан не из кругляка, а из досок, они не могли так быстро схватиться от чьей-то оплошности.
Клавка сразу предположила, что плеснули горючего. В погожий вечер вряд ли пламя так быстро разошлось бы само по себе. Те, кто хоть раз разводил костер, знают, что разжечь крупные поленья не так уж просто, как и обеспечить их скорое прогорание без мощной тяги или топлива. А спалить без подготовки целую постройку еще менее вероятно. Но самым подозрительным было то, что барак кто-то запер снаружи. Все указывало на саботаж.
Вера вспомнила, как во время представления из зала выходила Анисья, но тут же отмела эту мысль. Зачем Анисье организовывать поджог? Если Анисья таким образом решила расквитаться с ней, то это было нелепо, ведь она, Вера, в этот момент была в клубе. Барак поджигать было глупо. Анисья тут ни при чем. Она не способна на такое решительное действие, которое к тому же бессмысленно и опасно. Ее могли увидеть с вышки, так как барак располагался перед самым плацем. И где она могла раздобыть горючее? Притом, что Анисья казалась наиболее очевидной подозреваемой, она же была и наиболее невероятной кандидатурой для реализации преступления. Было много вопросов и нестыковок.
На следующее утро Грязлов вызвал Комитет. Он обосновался в кабинете Ларионова и выглядел бодро. Грязлов сообщил, что все члены Комитета должны заниматься строительством нового барака на месте сгоревшего. Вера выглядела безучастной. Она не могла думать ни о чем, кроме Ларионова. Инесса Павловна смотрела на нее с жалостью и тревогой.
– А ты что такая понурая? – спросил Грязлов с неприятной усмешкой.
Вера смерила его враждебным взглядом исподлобья.
– А что, есть повод для веселья? – сказала она сухо.
– Кому как, – ответил он.
– Видимо, у вас есть.
– Не забывайся, Александрова, – усмехнулся Грязлов. – Ты все еще зечка.
– Мой статус, надеюсь, когда-нибудь изменится. А вот обо всех этого не скажешь.
– И каков же мой статус? – поинтересовался он, оглядывая других заключенных.
– Боюсь, это определение будет нелестным, – спокойно заметила Вера.
Грязлов захохотал. Его забавляла принципиальность Веры. Он мечтал ломать таких, как она. Но понимал, что у нее была сильная протекция. Знал, что Ларионов мог быть беспощадным к мужчинам.
– Товарищ майор – любитель женщин с характером, – сказал Грязлов небрежно, чтобы унизить ее.
Вера промолчала, не считая нужным отвечать на его пошлые реплики.
– И вот еще что вам следует знать, – вдруг сказал он с прищуром. – Я приказал взять под стражу Анисью Фролову. Это она виновата в поджоге.
Заключенные переглянулись. Вера комкала косынку.
– Это невозможно, – сказала она.
– Не думал, что тебе симпатичны девки Ларионова, – желая вызвать в ней ярость, заметил Грязлов.
– Мне безразличны симпатии майора, – жестко отрезала Вера. – Но мне далеко не безразлично, когда страдают невиновные. У нее не было мотивов. В бараке не было того, кого бы она хотела устранить.
Инесса Павловна слушала Веру с восхищением и беспокойством. Грязлов ощетинился. В глазах его вдруг заблестело недоброе. Но он взял себя в руки и ухмыльнулся.
– Ты могла бы быть следователем НКВД, если бы не стала зечкой, – сказал он со злостью. – У нее были сообщники, имена диверсантов мы выясним.
Вера почувствовала нетерпение. Она видела, что Грязлов фабриковал дело против Анисьи. Ларионов был далеко и не мог защитить людей – его собственная жизнь висела на волоске.
– У нее не было мотивов, разве вы не видите? – упорствовала Вера.
Инесса Павловна схватила ее за руку.
– Вредителям не нужны мотивы, – бросил Грязлов. – Пошли отсюда.
Возвращаясь от Грязлова через плац, Вера увидела Федосью, спешившую к ним, переваливаясь. Вера двинулась ей навстречу.
– Ты была в больнице? – не поздоровавшись, спросила она.
Федосья еле перевела дух, пыхая, как самовар.
– Была… была… плох, очень плох. Весь в перевязках. Врача из Новосибирска вызвали, морфий колют.
Вера прижала ладонь к лицу, не понимая, как Федосья могла так просто произносить столь страшные слова.
– Бредит весь день. Веру какую-то все время зовет…
Вера вспыхнула и схватила Федосью за руку.
– Я должна с ним увидеться!
– Нельзя пока, – шепнула Федосья. – Он еще не в сознании. Да и Грязлов не позволит. Дай недельке пройти, другой – все немного устоится, там и видно будет.
– Так долго?!
– А чего ж ты хотела, дитятко? – выдохнула Федосья. – Пока на поправку не пойдет, никого не пустят.
Вера кусала губы.
– Давно бы к нему пришла, ничего бы этого не было, – тихо сказала Федосья.
Вера покраснела, снедаемая чувством вины.
– Я знаю, что он из-за меня пострадал. Но я не каяться собираюсь. Мне надо с ним поговорить.
– Ну и гордячка, – покачала головой Федосья.