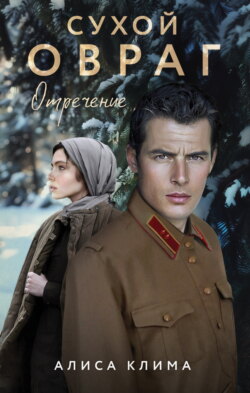Читать книгу Сухой овраг. Отречение - - Страница 5
Глава 4
ОглавлениеКогда Ларионова привезли в больницу, Пруст оценил, что положение майора было гораздо более тяжелое, чем предполагали его сотрудники. Он получил ожог третьей степени, и его очень долго везли по морозу, не оказав должной медицинской помощи: не остановили тепловую реакцию, не обработали раны. Доктор Пруст объяснил Кузьмичу, что жизнь Ларионова может оказаться в опасности, если его организм не справится [2]. Кузьмич новостью был потрясен.
Сразу же вызвали врача из Новосибирска, которого пришлось ждать сутки. К тому времени состояние Ларионова еще не улучшилось. Он бредил, часто проваливался, у него начался жар. Врач из Новосибирска сказал, что теперь транспортировать его в таком положении в Новосибирск было бы еще опаснее, чем оставить в Сухом овраге. Он разрешил использовать морфин, потому что Ларионов мог не вынести болевого шока. От жара таллин использовать было тоже опасно – препарат вызывал сильное потоотделение, а влага при ожогах губительна.
Ларионов не терял способности говорить, но первые три недели января шла борьба за его жизнь. Выяснилось лишь на пятый день, что у него сломаны ребра и ключица, вывихнута рука. Как это произошло, было непонятно. Сам он не мог ничего вспомнить. Для срастания ребер нужен был покой, но вот ключица создавала проблемы. Даже гипсовую повязку было сделать невозможно из-за того, что ключица была сломана со стороны ожога. Лечение усложнялось условиями сельской больницы. Пруст опасался сепсиса. На свой страх и риск врачи решили использовать ртутные препараты, но применять их долго было тоже опасно.
Далее для Ларионова, как ожогового больного, был необходим определенный климат в палате, где поддерживались бы надлежащие температура и влажность. Пруст и Марта, как могли, старались организовать эти условия, но тщетно. Когда буржуйку ставили в палату, становилось слишком жарко, воздух был сухой, а обожженная кожа начинала мокнуть от пота. Без печки становилось слишком сыро и холодно, что не давало образоваться сухому струпу. А это был ключ к началу выздоровления. Буржуйку в итоге разместили в предбаннике, оставляя дверь в палату открытой.
Было решено лечить Ларионова закрытым способом – то есть накладывать лекарственные повязки с ртутной мазью, которые надлежало менять хотя бы раз в два дня. Процедура эта была тяжелая, болезненная, осложненная переломами, и с перевязочными материалами имелись перебои, а расход на ожогового больного предполагался значительный, учитывая и то, что Ларионов был крупным мужчиной.
Пришлось отказаться от перевязок и перейти снова на открытый метод лечения, который, как выяснилось, также имел ряд недостатков. Прежде всего опасность была в проникновении инфекции через поврежденную кожу. Ларионову три раза в день обрабатывали часть кожи зеленкой. Это было болезненно, но бриллиантовая зелень была единственной мизерной гарантией спасения от инфицирования через раны.
Образование струпа шло очень медленно, и только к шестой неделе часть обожженной кожи стала высыхать. Рана на шее постоянно мокла, и Пруста это беспокоило. Потом началось нагноение, и пришлось опять прибегнуть к ртути и болезненным обработкам. Шел февраль.
Только когда постепенно стал отторгаться струп, Пруст почувствовал, что опасность была позади. Ларионов все еще пребывал в шоке и не понимал в полной мере, что с ним произошло. Только в феврале, когда Марта пришла, как всегда, для обработки в его палату, он стал ощупывать пальцами лицо. Оно все еще было шершавым. Он спросил, скоро ли он сможет вернуться в лагерь. Марта объяснила, что еще рано об этом говорить, потому что ключица и ребра полностью не срослись.
Ларионову было тяжело шевелить рукой и головой. Ребра болели и ограничивали движение. Кожа неприятно тянула у шеи, и он чувствовал постоянную боль во всей верхней части тела. Он с ужасом думал о том, что все это время, пока он находился в тяжелом состоянии, Марта ухаживала за ним, как за инвалидом. Ларионова это отягощало больше всего, и он сказал Марте, что отныне хочет сам заботиться о себе. Она со свойственной ей простотой сиделки убеждала его, что все лежачие больные нуждаются в помощи, но он наотрез отказался. Он начал осторожно вставать, используя трость, что причиняло ему физические мучения. Но ему казалось, что стыд был гораздо хуже.
В один из этих дней, когда он стал чувствовать себя получше, он наконец спросил у Кузьмича про Анисью. Кузьмич снял шапку и сел возле Ларионова. Он осторожно рассказал ему о том, что казнь состоялась до его приезда в лагпункт, упреждая новые драмы и страдания. Ларионов был бледен и долго молчал. В тот вечер самочувствие его ухудшилось. У него поднялось давление, наступил жар и пошла кровь носом. Пруст понимал, что это следствие переживаний.
Ларионов испытывал сильнейшее беспокойство оттого, что лагерь так долго находился под начальством Грязлова. Смерть Анисьи потрясла его. Мысли путались: он не мог понять, как могло произойти, что ее расстреляли без следствия; не мог представить, как она могла поджечь барак, а главное – зачем; думал, как терзалась Вера, наверняка виня себя в его ожоге. Но он знал от Федосьи, что Вера держалась все это время мужественно и достойно.
Ларионов поражался ее стойкости. Он вспоминал, как она решилась прыгнуть с вышки в воду, и никто не мог ей тогда помешать. Он сейчас понимал, что Вера была сильным человеком, гораздо сильнее многих знакомых ему мужчин. Целыми днями Ларионов думал только о ней и о лагпункте. Федосья докладывала обо всем в подробностях. Но он понимал, что она не могла рассказать ему главного – что чувствовала Вера.
Ларионов долго не просил Марту подать ему зеркало. Но когда он ощупывал лицо, понял, что оно изменилось. Струп на наиболее поврежденных участках начал отторгаться, и кожа стала мягче и нежнее, но она была не такая, как прежде. Он видел свои руку и плечо – эти странные красные рубцы, напоминавшие неровно размазанное масло по хлебу. Ларионов не думал о том, как изменился. Но у него до конца не раскрывался правый глаз, и это его настораживало и тревожило. Он с трудом привыкал видеть мир иначе…
Ларионов подшучивал, что теперь бриться будет куда быстрее. Но он видел невеселую улыбку Марты и понимал, что он стал другим.
Когда Марта пришла к нему в очередной раз с обедом на подносе, он попросил ее принести зеркало. Марта посмотрела на него печально и кивнула. Она понимала, что ему предстоит привыкнуть к изменившейся внешности.
– Когда наконец пройдет глаз? – спросил он улыбаясь. – У меня тянет кожу, когда я моргаю. И вообще я им стал хуже видеть…
– Ну, что у нас тут? – послышался с порога добродушный низкий голос Пруста, которого Марта оповестила, что Ларионов просит зеркало.
Ларионов казался бодрее. Пруст понимал, что он начинает возвращаться к привычной жизни, и именно сейчас ему потребуется сила воли, чтобы принять свой новый облик и привыкнуть к увечью глаза.
– Я хорошо себя чувствую, – сказал Ларионов. – Только что-то с глазом, он никак не проходит.
Пруст присел возле его кровати и сделал знак Марте выйти.
– Григорий Александрович, – начал Пруст приветливо, – ваше положение было достаточно тяжелым. Вы пережили сильное потрясение, как и ваш организм.
Ларионов усмехнулся.
– Говорите прямо, к чему эта прелюдия? – сказал он спокойно.
Доктор Пруст положил свою теплую пухлую лапу на руку Ларионова, как это делают врачи, без стеснения и субординации.
– Сейчас я принесу вам зеркало, – сказал он мягко. – Вы должны знать, что ваше лицо покалечено, глаз, к сожалению, навсегда останется таким. Медицина пока не может вам помочь с эстетической точки зрения. И вообще хорошо, что он остался цел и не ослеп…
Ларионов побелел, но слушал Пруста молча.
– Единственное, что со временем изменится – это цвет, – добавил Пруст, чувствуя жалость к положению Ларионова и предвидя новые непростые испытания. – Кожа посветлеет, но неравномерно.
– Что же, – вымолвил Ларионов, с трудом скрывая дрожь в голосе. – Я бы хотел взглянуть.
Пруст принес зеркало и вышел, чтобы не смущать Ларионова. Ларионов несколько секунд колебался, но потом осторожно направил зеркало на лицо.
Он отвел взгляд достаточно быстро. То, что он видел, было безобразно. Ларионов отложил зеркало и долго смотрел в окно.
Левая сторона его лица была совершенно цела, но правая изменилась до неузнаваемости: часть лба, веко, висок и щека обгорели, отчего верхнее веко слиплось во внешнем уголке глаза с нижним под перевязкой, и глаз был немного прикрыт; от челюсти вниз по шее, груди и правому плечу шли следы ожога и рубцы; кожа была разноцветной.
Он долго смотрел в окно. И хоть он знал, что зима в этом году не позволит себя скоро потеснить, Ларионов чувствовал приближение весны – первой весны рядом с Верой. Его охватила безутешная тоска. Уродство его тела и особенно лица угнетало его. И прежде Вера не питала к нему желания, в чем он был уверен из-за ее многочисленных отказов в близости. Теперь же он сам испытывал отвращение, глядя на себя в зеркало. Ларионов понимал, что все было безнадежно. Сейчас, когда он знал, что никакой Ирины не было, а была всегда Вера, он бесконечно прокручивал в голове все ситуации с самого первого дня, когда Веру привезли в обозе с новенькими и он бросил ее в ШИЗО, и потом, когда он ударил ее в бане; когда предлагал ей разделить с ним постель, не стесняясь в выражениях; и эти его отношения с Анисьей у нее на глазах…
Как она должна была презирать его и страдать! Ларионов прикрыл глаза, но веки его подрагивали от навернувшихся слез. Как омерзителен он должен был казаться ей – ей, которая узнала его в то лето, когда они познакомились, и он потерял голову, влюбившись в юную доверчивую девочку. Она мерила его теми мерами, когда он не был еще начальником лагеря и в ее понимании душегубом. Он помнил, как был готов сделать ей предложение и ждать. Сердце Ларионова колотилось от волнения и постигшего его горя.
Сколько боли он причинил ей в лагере. Он не мог без содрогания вспоминать ее лицо, когда они говорили об Анисье; когда она называла его «палачом»; когда сообщил ей, что едет на встречу с ней же… И он вспоминал ту Веру, которую он полюбил в Москве, – счастливую и восторженную Веру, готовую на все ради него. Как случилось так, что он все погубил? Зачем он оказался здесь, в лагере? Он ненавидел эту работу и презирал людей, с которыми ему приходилось ее выполнять. И себя презирал.
Ларионов не заметил, как застонал. Но несмотря на эти мрачные мысли, было что-то, что все еще поило надежду. Он не мог отделаться от мысли, что Вера хранила все эти годы и смогла сберечь даже в тюрьме, на этапе и в лагере его подарок. Он понимал, что хранила она память о том Ларионове, которого полюбила девочкой. Но даже в лагере, уже узнав его другим, она не могла расстаться с этой памятью. Он вспоминал ее прелестные влажные глаза, когда она пела на празднике – и пела для него. Неужели все эти годы она помнила о нем? А он? Какой он был дурак! Как он мог ее не узнать? Это был немыслимо… Как он должен был низко пасть, чтобы не узнать ее; как должен был обрасти панцирем и отупеть в пучине оболванивания людей и себя; в пучине разврата и грязи этой помойки, в которую он превратил свою жизнь, все глубже уходя под тонны гнили порочной системы!
Ларионов видел теперь иначе, чем прежде, ее враждебность и колкость. Вспоминая, как он некогда берег ее честь, он понимал, какие муки и унижения испытывала она, когда он склонял ее к сожительству самым гадким образом. Но все же он привязался к «Ирине». Он восстанавливал в памяти мельчайшие подробности их бесед и видел, что они оба проходили путь знакомства заново. Вера распрощалась в какой-то момент с тем Ларионовым, которого повстречала в Москве, как распрощалась однажды с Верой.
Это было непостижимо, но Ларионов словно наблюдал ход ее мыслей. Она знала, что, открой Ларионов, что Ирина была Верой, он стал бы опекать ее иначе. Ей хотелось дойти до конца и узнать, кем был он на самом деле в новых условиях. Это был чистый лист, и она осмелилась дать им обоим перо судьбы, чтобы исписывать его заново… Он ставил кляксы; она терпеливо ждала, когда его рука начнет выводить какие-то внятные буквы…
Ларионову теперь казалось безумием не проверить данные о ней; но более всего казалось невозможным не узнать ее. Только в актовом зале, когда она пела, он вдруг почувствовал знакомую волну, накрывшую его воспоминанием о Вере, и он похолодел, открыв для себя необыкновенное сходство этих двух женщин. Как мог он сразу не понять?! Ведь на свете не могло быть других таких глаз… Ларионов горько усмехнулся от того, каким он был болваном, чей ум был отравлен эгоизмом, самодовольством и ложными целями.
Он отложил зеркало на тумбу и вздохнул. «И все же, – промелькнуло у него в голове, – она нашлась! Она рядом!» И от этих мыслей в сердце его вдруг растеклась радость. Он понимал, что был глупцом, радуясь. Вера теперь, особенно теперь, будет питать к нему жалость, смешанную с отвращением, но его это уже не заботило. Он хотел видеть ее! Ничего не изменилось. Он, как и прежде, хотел ее, но только теперь желание видеть ее счастливой заглушало все другие желания. Это случилось с ним уже давно, но он просто не понимал, как хотел ее счастья. Он чувствовал, что в его влечении к ней всегда было что-то большее, чем просто плотское желание самца завладеть намеченной женщиной. Ему всегда хотелось нравиться ей; хотелось чувствовать ответное тепло; хотелось заботиться о ней и оберегать, как единственное истинное сокровище в этой гнилой куче его опыта и судьбы.
Необходимо было поскорее выбраться из больницы. Ларионов пробовал встать. Боль была нестерпимой, шею охватывала судорога.
Вскоре показался доктор Пруст и застал Ларионова в странном возбужденном состоянии.
– Доктор, – Ларионов выглядел озабоченным, но благодушным. – Когда мне можно будет вернуться в лагпункт?
Пруст думал, что Ларионов станет расспрашивать его о своем ожоге, но его, казалось, это совершенно не заботило.
– Не раньше чем через месяц, – ответил Пруст.
– Это слишком долго, – возразил Ларионов.
– Но помилуйте, Григорий Александрович, – сказал Пруст серьезно, – вы еще не поправились. Зачем вы старались встать? Смотрите, на шее опять засочилось! Что стряслось? Отчего вам приспичило быть в лагере?
Ларионов о чем-то лихорадочно думал.
– Скоро снег сойдет, – произнес он задумчиво.
Пруст кинул на него тревожный взгляд.
– Вам надо остыть! Вы возбуждены. Вы ничего не хотите сказать мне касательно вашей внешности? – спросил он наконец.
Ларионов глядел на Пруста с грустью в глазах, которая, казалось, поселилась там навсегда.
– А что же говорить? – усмехнулся он. – Это достаточно омерзительно. Но мне уже все равно.
– Отчего же все равно? – улыбнулся Пруст сочувственно.
Ларионов проглотил комок и отвернулся в сторону окна.
– Не знаю, – тихо ответил он. – Теперь меня заботит нечто поважнее моего лица.
Пруст потер подбородок.
– М-да, – произнес он по-врачебному многозначительно. – Мне кажется, вы ошибаетесь относительно того, как вас могут воспринимать окружающие. У каждого есть причины скрывать свои чувства. Они есть у вас, они могут быть и у другого человека. Вот что, Григорий Александрович! Ежели вам стало лучше, не желаете ли вы увидеться с кем-то помимо Федосьи и Кузьмича?
Лицо Ларионова невольно исказилось от боли. Он немного помолчал.
– Нет, навряд ли, – ответил он еле слышно.
Ларионов опустил глаза, не в силах скрыть свои муки. Он невольно вздохнул. При мысли о том, что она увидит его таким, он хотел умереть.
Пруст оставил его одного. Он понимал, что Ларионову надо было больше времени, чтобы тоска вынудила его встретиться с реальностью и забыть об увечье.
* * *
В лагере после пожара по приказу Ларионова был построен новый теплый барак из круглой сосны. Барак соорудили всего на двадцать мест, и в нем остались в основном «бабы майора», как их шутливо называли зэки. Пузенко опять привез новые матрацы, подушки и белье. Он умудрился на радость Балаян-Загурской и на смех заключенным умыкнуть где-то новый диванчик «мадам Рекамье» для дневальной.
Ларионов приказал поставить в бараке хорошую каменку, которую построил опытный печник из Сухого оврага. Несмотря на тоску Веры о Ларионове, она искренне радовалась переезду. Женщины просили Федосью и Кузьмича благодарить майора за такой подарок. Рутина снова захватила людей. Грязлов перенес все давление на заключенных мужчин, и ШИЗО был переполнен. Каждый день он писал докладные записки начальнику и отправлял с Кузьмичом.
Федосья рассказывала женщинам о майоре, но избегала разговоров о его внешности. Вера спрашивала о Ларионове в надежде услышать, что он хотел увидеться, но Федосья только пожимала плечами.
Так прошли январь и февраль. В начале марта неожиданно наступила кратковременная оттепель. Это была ранняя оттепель для здешних мест. Лариса Ломакина привела в порядок библиотеку, но без Ларионова ничего не двигалось. Вера и Лариса предложили Грязлову начать проводить там небольшие уроки для заключенных для повышения их грамотности, но Грязлов ограничился скучными лекциями на политические темы, которые считал нужным проводить сам или привлекал Губину.
Однажды Вера пришла без договоренности к Грязлову и попросила его отпустить ее в Сухой овраг в больницу. Она жаловалась на проблемы по женской части, которые мог помочь решить только доктор Пруст. Грязлов усмехнулся.
– Хочешь к майору? – спросил он напрямик. – А он-то тебя видеть не спешит.
Веру передернуло. Возможно, это так и было, но она должна была поговорить с ним. Необходимо было получить его одобрение на создание учебной программы для зэков.
– Мне можно съездить? – спросила она бесстрастно.
– В тот раз ты уже съездила, – сухо заметил Грязлов. – Я не верю, что это Кузьмич заварил всю эту кашу с отменой расстрела! Кузьмич – дурак. – Он помолчал. – Ладно, езжай, но если ты допустишь еще один промах…
– То что? Меня постигнет участь Анисьи? – не выдержала Вера.
– Что ты хочешь сказать? – В глазах Грязлова появилось знакомое Вере звериное выражение.
– Только то, что вам нельзя переходить дорогу, – спокойно ответила она.
Грязлов засмеялся, закинув голову, обнажая мелкие темные зубы. Для Веры Грязлов был архетипом всего, что она презирала в людях. Он был воплощением зла, и она не могла определить ни одной причины, по которой такого, как Грязлов, следовало бы жалеть или прощать.
– Ладно, езжай, развлеки мужика, а то он уже два месяца без бабы, – сказал он, чтобы разжечь в Вере ярость.
Но она не ответила и вышла из комнаты.
Кузьмич стегнул лошаденку, и они поехали в Сухой овраг. Вера постирала свое поношенное красное платьице в мелкий цветочек, которое сильно истрепалось за время этапа и пяти месяцев в лагере и было похоже на старую линялую тряпку с сальными пятнами и заштопанными дырочками; вымыла и уложила волосы, чтобы предстать перед Ларионовым свеженькой и красивой. Солнце сегодня светило особенно ярко. Вера всю дорогу была задумчивой.
Она не знала, как ей удастся пройти через конвоира, стоявшего у двери, но намеревалась попасть к майору любыми способами. Это было просто немыслимо, что он так долго был изолирован от лагеря. Она хотела увидеть его. Вера попросила Кузьмича помочь организовать свидание. Сначала Кузьмич отнекивался, но он понимал, что Вера ехала с ним, только чтобы навестить Ларионова. Немного поворчав, он согласился. В душе Кузьмич радовался, что, наконец, она встретится с хозяином.
В больнице Вера сразу прошла к доктору Прусту, а Кузьмич направился в палату к Ларионову. Он елозил и был рассеян, а Ларионов чувствовал волнение. Он спросил у Кузьмича, зачем тот приехал, но Кузьмич попросился срочно выйти. Ларионов еще больше занервничал.
За дверью Кузьмич предложил конвоиру сходить с ним за махоркой к телеге; и конвоир, немного поколебавшись, пошел, потому что такой подарок выпадал редко – чтобы предлагали дармовую махорку!
Доктор Пруст усадил Веру и объяснил ей, что Ларионов сильно пострадал при пожаре и то, что она увидит, может потрясти ее; она должна быть готова, чтобы не нанести ему обиду. Он также сказал ей, что правый глаз майора стал хуже видеть. Вера сильно волновалась. Она понимала, что говорил ей Пруст, но не видя Ларионова, как и любого другого человека, получившего ожог, ей было сложно представить, как может выглядеть его лицо. Перед ее глазами по-прежнему стояло лицо того Ларионова, которого она знала прежде.
Доктор Пруст выглянул за дверь – конвоира не было, и он разрешил Вере пройти к Ларионову. Эти несколько шагов до его палаты Вера преодолевала с усилием; она больше всего боялась выдать свои чувства. Если он выглядит действительно не так, как прежде, она не сможет скрыть переживания и обидит его. Но Веру вела радость от долгожданной встречи.
Она поправила платье и осторожно заглянула в дверную щель. Ларионов что-то читал, лежа на приподнятой подушке. На нем была белая рубаха; до пояса он был укрыт одеялом. Когда Вера рассмотрела его лицо, сердце ее ухнуло вниз и заколотилось в бешеном ритме. Она быстро прикрыла дверь и тяжело дышала, не в силах овладеть собой. Ей хотелось плакать, кричать, умолять его простить ее, покрывать поцелуями его руки из жалости, охватившей ее. Она сжимала кулаки, чтобы привести себя в порядок. Что станет с ним, если она не сможет справиться с волнением? Конвоир мог вернуться с минуты на минуту – надо было решаться…
– Кто там? – услышала она из-за двери знакомый тягучий голос. – Кузьмич?
Он услышал шорох и забеспокоился. Вера понимала, что, если она будет изображать, будто он не изменился, это будет выглядеть неестественно. Но ее трагический вид тоже не приподнимет его настроения. Вера решила, что надо просто думать о нем как о человеке. Ведь его тело – лишь оболочка. Внутри был тот же человек, которого она знала.
С этой мыслью она постучалась.
– Войдите, – послышалось из палаты.
Вера вошла. Их глаза встретились. Он замер от неожиданности.
– Зачем ты пришла? – вдруг сказал он тихо и отвернулся. – Уходи. Прошу тебя.
– Но я…
– Ступай, – сказал он более настойчиво, и Вера слышала в его голосе мольбу.
Она исчезла за дверью. Но как только Вера вышла от Ларионова, она поняла, что не может уйти, не должна уходить. Она решительно открыла дверь и вошла снова. Он смотрел в окно и вздрогнул.
– Григорий Александрович, – сказала как можно более нежно Вера. – Не гоните меня. Мне стоило больших трудов попасть к вам.
Ларионов повернулся к ней, замирая при мысли о том, что она перед собой видела.
– Для чего? – спросил он спокойно.
Вера опустила глаза. Неужели он был не рад ее видеть? Неужели не хотел даже поговорить с ней минуту? Ларионов заметил приколотую к платью брошь, и сердце его сжалось. Она носила ее теперь открыто. Она не стыдилась их прошлого…
– Если вам так неприятно мое присутствие, – произнесла едва слышно она, – я тотчас уйду.
Ларионов был рад ее видеть, очень рад. Он так давно мечтал о ней, что хотел приласкать ее незамедлительно.
– Ну что ты, – сказал он, не зная, куда деться от смущения. – Мне очень приятно твое присутствие… Вера. Скорее, наоборот, тебе может быть не очень приятна эта больница и все остальное…
Вера взглянула на него.
– Разве была бы я здесь? – Она улыбнулась.
Ларионов невольно тоже улыбнулся. Теперь, когда он решил, что Вера для него была безвозвратно потеряна как женщина, он отказался от всяких притязаний на нее. Он должен был привыкнуть к своему увечью и жить с этим, а главное, позаботиться о ней.
– Тогда присядь, – сказал он ласково.
– Скоро придет конвоир, – произнесла Вера нерешительно, присев на табурет.
– И что же? – спросил Ларионов, радостно изучая ее.
– Мне придется уйти, у меня мало времени.
– Только если ты сама пожелаешь, – сказал он, опасаясь внутри, что она покинет его.
Вера улыбалась. Они находились некоторое время в тишине.
– Вера, – сказал вдруг Ларионов, – давай не будем говорить теперь про лагерную жизнь. Я хочу знать о тебе.
Вера недоуменно посмотрела на него.
– Что же? – спросила она, чувствуя себя немного неловко. Кроме того, ее подмывало спросить его напрямик, почему он все же не уехал в Москву на встречу с ней же.
– Всё, – ответил Ларионов, оглядывая ее лицо, словно стараясь вобрать каждую его черточку и запомнить теперь навсегда.
Он невольно скользнул взглядом по ее губам и опустил глаза. Он должен был запретить себе думать о близости с ней. Должен подавить желание. Его увечье становилось удобным поводом отказаться от Веры. Но от запретов, которые он придумывал, желание лишь нарастало. Вера видела какие-то переживания, творящиеся в нем, но не могла угадать их природу. Возможно, это было связано с тем, что она оказалась не той, за кого себя выдавала.
– С чего начать? – улыбнулась она сквозь слезы.
Ларионов с трудом отрывался от ее лица, чувствуя себя неловко из-за того, что не мог в полной мере скрыть своих чувств.
– С того дня, как я покинул ваш дом, – сказал он хрипло. – С того дня, который я никогда не забуду.
Вера задумалась. Она не хотела говорить Ларионову о своих страданиях; как она тосковала по нему и не могла забыть, вопреки ожиданиям домашних; как скрывала от всех любовь и смотрела каждый день на дверь, надеясь, что он вернется; как проверяла без конца почтовый ящик; как не хотела уезжать из дома на море с родителями, опасаясь, что он приедет, когда их не будет, и, переступая стыд, просила Стешу не упустить Ларионова; как задыхалась от любви, вспоминая его. Ларионов смотрел на нее: в ее взгляде появились такие мягкость и женственность, которых он прежде не видел. О чем она думала сейчас?
Вера подняла на него глаза.
– Мне хочется о многом вам рассказать, – сказала она, оглядывая его.
Возможно, он этого не понимал, но она уже привыкла к его внешности. Вера сама удивилась, как быстро она приняла его новый облик. Он ей не казался ужасным и чужим. Его грустные глаза нисколько не изменились.
– Я буду рад этому и жду с нетерпением, – ответил Ларионов, думая, что ею руководит жалость. Но он скучал по ней, и каждая минута, пока она была рядом, казалась ему сейчас особенно ценной.
Вера рассказала о новых задумках в лагере: Лариса Ломакина проделала великолепную работу в библиотеке, и теперь там можно устроить курсы для зэков, которые хотели бы продолжать образование. Конечно, в библиотеке оказалось не так много литературы, и было бы хорошо, если бы он смог «выбить» больше книг.
– Можно попросить в Новосибирске у вашего начальства; они не должны отказать, если вы им скажете, что это необходимо в целях улучшения советской пропаганды среди вредных элементов, – закончила Вера деловито.
Ларионов засмеялся – он впервые за все эти долгие недели смеялся, и Веру это радовало.
– Что же еще ты хочешь получить под предлогом расширения советской пропаганды? – спросил он, наслаждаясь ее жизнелюбием.
Вера кокетливо задумалась; ее личико сияло свежестью. Она была так счастлива, что он остался жив.
– Было бы хорошо разрешить заключенным издавать газету: такое есть и в других лагерях, мы слышали, – осмелела она.
Ларионов усмехнулся. До чего нужно было довести этих женщин, чтобы вместо красивых платьев, парфюмерии, шоколада и цветов они мечтали издавать лагерную газету!
– Я имел в виду для себя, – улыбнулся он.
Ларионов заметил, как Вера сразу съежилась и смутилась.
– Мне ничего не нужно для себя, вы же знаете, – сказала она спокойно, чтобы не ранить его.
Ларионов тут же упал духом. Неужели она думала, что он пытался снова добиться ее расположения? Неужели считала его таким грубым и неотесанным чурбаном, который посмел бы искать теперь ее благосклонности?
– Вера, твоя одежда износилась, – ласково сказал он. – Что же в этом плохого, если я проявлю хоть какую-то заботу о тебе?
– Я хочу быть со всеми в равных условиях. Вы и так много сделали для меня.
– Что я сделал? – нетерпеливо сказал он, отвернувшись. – Дров наломал – вот что я делаю с завидным упорством…
Вера чувствовала, что он огорчился, но она не могла уступить. Ей было и раньше неловко от его патронажа.
– Ну хочешь, я организую свидание с кем-то из твоих родных? – вдруг предложил он. – Они привезут тебе гостинцы, одежду, если ты ничего не хочешь принимать от такого, как я.
Вера вспыхнула. Она знала, что он не забыл и не забудет никогда, как она назвала его «палачом».
– Нет! – быстро ответила она. – Маме будет тяжело преодолеть это расстояние. Она не вынесет, если увидит, как я здесь живу… если увидит вас. Я не хочу ее сюда тащить из-за блажи. Я уже привыкла жить как живу, Григорий Александрович. Я узнала смирение…
– А как же отец и Алешка? – спросил он, но запнулся, с ужасом предвидя ответ.
– Их больше нет, – спокойно сказала Вера. – Отца и Алешу расстреляли в Бутово [3].
Ларионов почувствовал, как слезы застряли комом в горле. Он начал прерывисто дышать.
Нет, Ларионов и Вера не знали всех деталей. Но аура смертей расстрелянных там лишь внешне, казалось, не лежала на каждом, кого это не затронуло напрямую. Аура знания, что происходит что-то страшное, и страх от этого внутриутробного знания проник в каждую клетку каждого человека, закрепив на столетия ужас и ненависть к людям в погонах «силовиков» на генном уровне советского, русского человека… И никакой сменой вывесок этот страх в обозримом будущем истребить будет невозможно для по крайней мере трех поколений. И любой намек на возможность насилия все дальше будет отодвигать этот рок недоверия, ненависть в жилах и ужас от возможного соприкосновения с системой, основанной на принципе презумпции вины.
– Расскажи мне все, Верочка, – сказал он, и его рука вдруг коснулась ее руки, и она не отдернула ее.
– Всего я не знаю, – начала она. – Вернее, я не знаю подробностей после их ареста. Сначала я даже не понимала, что их арестовали, потом не понимала за что. Объяснения следователя были настолько абсурдны и нелепы, что я не верила в происходящее до последнего. Только пройдя тюрьму, суд, этап и оказавшись в лагере, я поняла, что таких, как мы, тысячи, а может, миллионы… и что можно человека арестовать и убить ни за что.
Ларионов опустил глаза. Вера облекала в простые слова то, о чем он думал уже многие месяцы и боялся произнести вслух: что люди, управлявшие его страной, преступны.
– Алеша очень вас полюбил и восхищался вами. Он сильно рассорился с Подушкиным после… того. Женя уехал в Среднюю Азию работать по профессии – он не смог простить себе того, что натворил, а я была слишком погружена в собственные чувства. Алеша стал интересоваться политикой, все время что-то писал в своем дневнике. Он считал, что товарища Сталина окружают неверные люди; во многом не соглашался с новым устройством государства. Ему казалось, что у него есть полезные рационализаторские идеи. Он начал обсуждать их в институте, предлагал их везде и не встречал особых возражений. В тридцать пятом году Алеша женился; у них родился сын. Мы жили одной большой семьей. Жена Алеши Стася была против его политической деятельности, считала, что Алеша распыляется. Но Алеша… – Вера запнулась от сдавливающих голос слез, и Ларионов сжал ее руку. – Да, Алеша слишком любил Россию… и людей. Он, конечно, был никудышным политиком, но в его идеях не было ничего преступного. По крайней мере, я знала, что он всегда склонялся к миролюбивым подходам решения вопросов. Алеша вообще был гуманистом. Но вы знаете…
Ларионов налил Вере воды из графина в свой стакан, и она жадно отпила.
– Однажды Алеша решил пойти в ЦИК партии и внести свои предложения. Он там встретился с кем-то; пришел возбужденный и радостный; сказал, что его предложения очень понравились какому-то чиновнику. Но через неделю ночью в дверь постучались. За Алешей пришли. Они устроили обыск и изъяли дневники. Никто ничего не понимал, и мы считали, что произошло недоразумение и Алешу отпустят. Но через несколько дней они снова пришли и забрали папу. Шел май. Я ходила каждый день на работу в школу и не могла смириться, что в этой всеобщей весенней суматохе и радости папа и Алеша были где-то под подозрением. Я стала узнавать у людей, что могло произойти. Со мной говорили неохотно. Но один человек намекнул, что следы папы и Алеши надо искать на Лубянке. Как мы все были наивны!
По лицу Веры скатилось несколько слез. Она их поспешно вытерла. Ларионов был мрачен; он, зная Веру, уже предполагал, как дальше складывалась история.
– Был хороший летний день – да, было седьмое июня – понедельник. Я попрощалась с домашними и сказала, что иду на работу. Но пошла на Лубянку. Я больше не могла мучиться вопросами о папе и Алеше. – Вера усмехнулась. – Спустя девять месяцев я все еще в той же одежде, что была в тот день. Я долго объясняла, по какому вопросу пришла, кого искала. Со мной все были вполне любезны, и во мне затеплилась надежда.
Ларионов мотал головой. Сердце его сжималось от жалости. Вера отпила еще немного из его стакана.
– Наконец спустя час или два меня пригласили в кабинет. Там сидел какой-то лысый мужчина лет сорока с усталым взглядом. Он вежливо попросил меня присесть и налил воды из графина. Я думала, что скоро все выяснится. Я рассказала ему нашу историю, он ничего не записывал – только имя папы и Алеши. Выслушав меня, он с мягкой улыбкой сказал, что моим делом займутся «соответствующие лица». Я радостно распрощалась с ним, поблагодарив за участие. Но меня тут же повели в другой кабинет. Там сидел человек, явно ниже чином – я ведь ничего не понимала в званиях, – но это было написано у него на лбу. Он уже не был столь церемонным и вежливым, как предыдущее лицо. Он попросил меня все рассказать заново, и когда я удивилась и сослалась на его начальника, который и так все знал, он грубо оборвал меня. Я стала излагать свою историю сначала; этот все записывал. Через какое-то время ему принесли папки. Он просмотрел их и неприятно усмехнулся. Я поняла, что это были дела папы и Алеши. «Дочь и сестра врагов народа», – произнес он надменно. Я содрогнулась. Эти слова не могли относиться к папе и Алеше. Папа был врач! Он всю жизнь спасал людей, в том числе и таких, как это ничтожество.
Вера заметила, как печален был Ларионов, и ей стало неловко, что она говорит с ним об этом.
– Простите, – сказала она, – мне лучше уйти. Я вовсе не хотела вас огорчать.
Ларионов не отпускал ее руки, а сжал ее только сильнее.
– Нет, – возразил он сурово. – Я желаю знать всё.
– Всё? – Вера устремила взгляд сквозь окно. – Разве смогу я передать всё словами? Как надежда и радость постепенно стали сменяться недоумением и подозрением, а потом страхом и ужасом, а после отчаянием и безысходностью. Когда на часах уже было около семи вечера, я сильно забеспокоилась, стала спрашивать, когда меня отпустят, объясняла, что меня может искать мама. Следователя это ничуть не волновало. Я только потом поняла, что он уже тысячи таких же, как я, пропустил через свои руки, у него не было никаких чувств к нам, и что мама, Кира и жена Алеши могли так же оказаться на Лубянке, как родственники «врагов народа», и, возможно, этого не случилось потому, что они обошлись моим арестом. Он сказал, что это невозможно, и пока ведется разбирательство, я должна остаться здесь. «Здесь» означало изолятор.
Меня отвели в одиночную камеру, где я провела ночь. Мне не хотелось плакать, я очень устала от допроса. Но я не знала, что все лишь начинается. Я отказывалась от еды, да и можно ли было назвать это едой? Я не понимала, что скоро именно это станет для меня основной пищей, и что от хлеба отказываться нельзя никогда, и что в тюрьме надо иметь только три вещи, спасающие жизнь: хлеб, лук и мыло.
Вера некоторое время молчала, глядя в окошко, словно с трудом извлекая эти воспоминания из тайника, в который их заперла.
– На следующий день меня повели фотографироваться. Надзиратели не отвечали на мои вопросы. Там было несколько таких же, как я, людей. Одна женщина в очереди сказала мне, чтобы я постаралась спрятать ценное, так как скоро будет обыск и все отнимут. У меня сняли отпечатки пальцев. Потом отправили в камеру. Днем я немного поела хлеба, так как стала ощущать слабость. До ночи меня опять никто не вызывал. А на следующее утро привели к следователю, но это был новый персонаж.
Я снова рассказывала то же, что и прежде. Потом он закричал, что устал слушать ложь. Он предъявил мне дневник Алеши и спросил, знала ли я о нем. Я ответила, что знала. Он спрашивал, что в нем написано. Я объяснила ему, что не имею обыкновения рыться в чужих дневниках. Он пролистал несколько страниц и показал мне строку, где Алеша писал, что он не согласен с жестокостью мира и что-то такое. Я засмеялась и сказала, что за это нельзя арестовывать людей, в противном случае ему бы пришлось арестовывать и таких людей, как Толстой, Чехов или Аристотель. Он ударил меня по лицу и закричал, что если надо, то и их арестуют!
Ларионов тяжело дышал, понимая, что слова Веры не отражают и десятой доли того, что она пережила.
– Я сильно заплакала. Меня никто никогда не трогал, не бил. – Она замолчала, вспоминая, как Ларионов ударил ее по лицу в бане.
Он хотел что-то сказать, но Вера продолжила:
– Следователь показал мне документ, где была изложена моя история, и попросил подписать. Я дочитала все до конца и поняла, что это признание в проведении антисоветской пропаганды! Я сказала, что не стану подписывать клевету на себя, и тогда он снова меня ударил. Я упала на пол. Меня снова повели в камеру. Мне не разрешили сидеть. Как только я присаживалась на корточки или на пол, надзиратель кричал, чтобы я встала. Я сильно хотела спать. Я старалась спать стоя, но не могла. Это было мучительно. На другой день я снова встретилась с тем же следователем. Он попросил меня подписать документ. Он выглядел уставшим. Ему все надоело, он хотел поскорее избавиться от меня. Я сказала, что не стану подписывать то, в чем меня обвиняют. Я спросила его про отца и Алешу. Следователь сказал, что не знает и что дневник Алеши – главное доказательство нашей антисоветской деятельности, так как в нем упоминается неоднократно имя папы, и мое имя встречается часто. Я не выдержала и сказала, что упоминание имен людей в дневниках не является чем-то необычным. Тогда он сказал мне: «Ты, наверное, не понимаешь, что ты арестована за антисоветскую деятельность, и то, что с тобой происходит сейчас, покажется раем по сравнению с тем, что тебя ждет». Я не понимала, что была арестована. Но подписывать ничего не стала.
Вера снова схватилась за стакан и пила так страстно, словно снова переживала тот страшный опыт.
– Потом повели на обыск. Меня и еще несколько женщин попросили раздеться донага. Я стояла в середине; некоторые женщины начали плакать. Первую обыскивали тщательно – рылись в волосах, заглядывали в уши, в нос, в рот, потом попросили присесть на корточки… Больше всего я боялась, что у меня найдут мою вещь. Но вторая женщина не выдержала унижения; начала кричать, набросилась на охрану, обзывала их. Они начали ее избивать, а в это время две женщины быстро обыскивали остальных. Я думаю, что в этой сумятице они просто не заметили, что я спрятала брошь в волосы – благо у меня они густые. Из ридикюля забрали зеркало, но сумочку и деньги вернули. После обыска я думала, меня отправят обратно в камеру. Но нас повели к выходу. Я сначала обрадовалась. Мне показалось, что наконец неурядица выяснилась и меня отпускают. Но меня и еще нескольких женщин посадили в «воронок» с надписью «Хлеб» и повезли куда-то. Мы ехали не очень долго. Нас привезли в какое-то здание, завели в небольшой зал, где сидели трое. Я потом уже узнала, что меня приговорила тройка. Суд надо мной длился не более десяти минут. Сверяли мои данные и, видимо, тогда изменили мое имя. Наконец, мне был задан один-единственный вопрос: почему я не подписала признание в совершении антисоветской пропаганды? Я сказала, что не могу признать то, в чем неповинна. Они переглянулись, а один из них буркнул: «Все вы так говорите!» Я не выдержала и спросила, где были отец и Алеша. «Там же, где будешь ты», – был краткий ответ. Мне стало не по себе. «Я ни в чем не виновата», – повторяла я и все плакала. Я наивно сказала, что хочу домой, и это была правда. Я просто хотела домой.
Вера замолчала, словно отматывая время к последней точке, когда она была свободна.
– Они приговорили меня к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В Бутырке, где я ожидала этапа, мне разрешили увидеть маму. Перед самым этапом мама сказала, что отца и Алешу расстреляли. В Бутырке, к счастью, я пробыла недолго. Там было ужаснее всего. Потом нас отправили в Сибирь, в лагерь, где я встретила вас.
Вера посмотрела на Ларионова. Он был бледен и выглядел уставшим; глаза его покраснели от подавляемых слез. Он взял ее руку и осторожно поцеловал в ладонь.
– Прости, Вера, – прошептал он. – Прости.
Вера улыбнулась.
– За что же мне прощать вас? – спросила она и поправила подушку под его головой. – Я и так уже давно простила.
– Я прошу прощения за всех, – ответил он, потрясенный силой и красотой ее души. – Я прошу прощения за то, что они… мы сделали с тобой и другими людьми…
Вера опустила глаза, понимая его боль.
– Я давно перестала думать об этом. Сначала были ненависть, обида, горечь, потом отчаяние, потом пришли оцепенение и безразличие, и вдруг затеплилась надежда. Это было моим воскресением. И во многом я возрождалась благодаря вам.
Ларионов вскинул на нее взгляд, пытаясь найти иронию в ее словах. Но Вера смотрела на него с тихой лаской.
– Вы позволили нам делать хорошее дело в лагере, и это нас спасает.
Ларионов был утомлен и раздосадован. Вере не хотелось покидать его в таком состоянии. Она понимала только теперь, что многое из того, что делал НКВД, было неизвестно и самому Ларионову.
– Вот вам славная новость, – оживилась Вера. – Малыш Ларисы усиленно шевелится. Он, должно быть, здоровенький. Я слышала, что дети, которые много толкаются, рождаются крепкими.
Ларионов слабо улыбнулся.
– Мне пора ехать, – как можно более весело сказала Вера. – Вам нужно отдыхать, а мне – в лагерь.
Она встала и посмотрела на Ларионова игриво, но он заметил лихорадочный блеск в ее глазах.
– А ваш конвоир меня не посадит в карцер за нарушение режима?
Ларионов покачал головой.
– Пока я рядом с тобой, тебе ничего не грозит, – сказал он с горькой усмешкой. – Я скажу ему, что ты пришла по моей просьбе.
Вера пошла к двери и повернулась.
– Возвращайтесь поскорее.
Ларионов хотел попросить ее приехать завтра, но не решился. Он не был уверен, что Вера хочет видеть его так часто.
2
Антибиотики стали применяться только в 1943 году.
3
В то время в Москве было два расстрельных полигона. Полигон «Коммунарка» называли «верховкой», а Бутовский – «низовкой». В «Коммунарке» обычно расстреливали людей, занимавших высокое положение. В Бутово – обычных граждан.