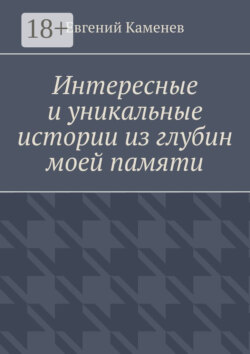Читать книгу Интересные и уникальные истории из глубин моей памяти. Воспоминания - Евгений Сергеевич Колесов - Страница 13
Воспоминания о послевоенном Красноярске
ОглавлениеВ 1950 году мы вернулись с 503-й стройки на постоянное местожительство в Красноярск. Моя память отчетливо запечатлела послевоенный город. Первые мои воспоминания о Красноярске относятся примерно к осени 1948 года, но гораздо лучше я помню жизнь города после 1950 года. В то время Красноярск состоял в основном из деревянных домов без каких-либо бытовых удобств. В центральной левобережной части города еще с царских времен оставалось немного кирпичных добротных зданий бывших губернских органов управления, купеческих торговых домов и частных усадеб. В городе было заасфальтировано или замощено булыжником всего несколько улиц, на которых во времена моего детства еще встречалось много гужевого транспорта. Автомобилей было совсем мало, гораздо чаще появлялись конные пролетки, возившие начальников различных маленьких контор. Это был типичный для Сибири город с населением к 1948 году чуть больше 150 тысяч человек, застроенный в основном деревянными домами и бараками с печной системой отопления. Печки топились углем или дровами. Уголь был местный, его еще с военной поры добывали на Бадалыкской горе рядом с городом. Мы топили печку дровами. Эти дрова наш отец закупал в конторе под названием «Гортоп» и доставлял в виде бревен на машине во двор. После этого примерно неделя у нас с братьями уходила на то, чтобы распилить двуручной пилой бревна на чурки, расколоть чурки на дрова, перенести в стайку и сложить их там в поленницу. В значительной части города не было централизованной системы водопровода и канализации, и туалеты в виде незатейливых деревянных будок типа «типа сортир» стояли в каждом дворе. Для сбора прочих бытовых отходов предназначались дворовые выгребные ямы. Поэтому нередко по улицам разъезжали «золотари» на ассенизационных подводах с длинными деревянными бочками и ведрами на длинных шестах, оставлявшие за собой шлейф неприятных запахов. В СССР того времени домашних бытовых холодильников еще не было, поэтому во многих дворах жители устраивали коллективный погреб для хранения продуктов, который охлаждался большими заготовленными в начале весны кусками енисейского речного льда. Такой общий погреб размещался в нашем дворе на глубине около трех метров – от входной двери вела вниз длинная деревянная лестница, наклоненная под углом в 45 градусов. На этой лестнице мне не раз приходилось отсиживаться в детстве после первого загара до волдырей на коже, когда желанный прохладный воздух из погреба охлаждал полученные солнечные ожоги на спине и плечах.
В те годы зимой на Енисее работали артели по заготовке кусков льда для продажи населению и малым оптовым организациям, не оборудованным промышленными холодильными установками. Городской водопровод был проведен только в большие многоэтажные дома на центральных улицах в социальные объекты типа больниц, школ и детских садов, а для остального населения на улицах стояли водоразборные ручные рычажные колонки, из которых жители ведрами разносили воду по домам. Городской водопровод подавал в сеть только холодную воду. Как только в семьях красноярцев подрастали дети, они приучались носить воду в ведрах на коромысле или возить на тележке во флягах и бачках. Наша семья не составляла исключение: обязанности по доставке воды в дом сначала были возложены на моих старших братьев, а потом и на меня. Ближайшая водопроводная колонка стояла у самого берега Качи, на расстоянии примерно 300—350 метров от нашего дома. Представляете себе, сколько ведер воды нам приходилось наносить с колонки домой для готовки, уборки с мытьем полов, большой стирки и купания пятерых человек? Стиральных машин тоже еще не было, и мама стирала на простой стиральной доске. Этот архаичный прообраз стиральной машины представлял собой оцинкованный лист с волнистой поверхностью, обрамленный деревянной рамой. Привычных сейчас моющих средств для стирки тогда тоже не было, и стирали с хозяйственным мылом.
Так стирали до появления стиральных машин
Из-за отсутствия водопровода в домах важное значение для горожан приобретали общественные государственные бани. Баня в то время являлась не просто местом для мытья, она являлась настоящей культурной особенностью быта советских людей. В основном это были бани с женскими и мужскими отделениями со спартанским набором сервиса: раздевалка, помывочное отделение и парилка человек на 10—15 (заядлые парильщики с удовольствием парились при высокой температуре с веником, а дети могли вытерпеть такую жару лишь несколько минут). Как правило, в банях работали небольшие буфеты с чаем, газировкой и разливным бочковым пивом. Поэтому еженедельный поход в баню с санитарно-гигиеническими целями для населения превращался в своего рода приятный отдых с возможностью расслабиться и пообщаться с соседями и друзьями или приобрести новых знакомых. В банях работали парикмахерские, в которых после стрижки или бритья предлагалось освежиться на выбор одеколонами «Тройной» или «Шипр». Бани того времени были местом, где происходили не только водные процедуры, но и разговоры о политике, жизни, спорте и о многом другом. Банные посиделки у самовара или с кружкой бочкового пива располагали людей общаться и обсуждать все, что происходило в их жизни. Такая большая городская баня со всем ненавязчивым полным сервисом от стрижки до разливного пива находилась в полутора кварталах от нашего дома на улице Маяковского, и я в выходные дни наблюдал из окна непрекращающийся людской поток с сумками и вениками.
Большинство улиц в городе моего раннего детства, кроме нескольких центральных, не было заасфальтировано, и проезжавшие редкие машины жарким сухим летом оставляли огромные облака пыли. Иногда появлялись большие и мощные американские «студебеккеры», полученные в годы войны по ленд-лизу, но чаще всего попадались «полуторки». Застал я и газогенераторные полуторки, имеющие по обеим сторонам кабины цилиндрические газогенераторы, работающие на дровах. Эти машины начали выпускать в тяжелые военные годы, когда на гражданке не хватало бензина, и закончили выпуск только в пятидесятые. В начале пятидесятых годов в городе появились машины марки «Москвич-401» с деревянным кузовом. Очевидно, в стране не хватало тонкого и дорогого листового проката для штамповки деталей кузова, и власти нашли ему замену.
В те годы не хватало общественного транспорта, и в автобусах всегда была давка и теснота. В городе было всего два-три десятка такси, но поездка на них для большинства населения представляла чересчур дорогое удовольствие. Профессия таксиста считалась уважаемой и денежной. На моей памяти было два знакомых таксиста: дядя Ваня Третьяков и бабушкин сосед по улице Кузьмина таксист Лазарук, содержащие на свои заработки неработающих жен и четверых или пятерых детей в каждой семье. В качестве такси сначала использовались машины «Победа» и «Москвич» ранних моделей, позже «Волга». После прокладки городской канализации примерно в 1954—1955 году в левобережной части города началось асфальтирование основных улиц и тротуаров.
С незапамятных времен Красноярск был разделен Енисеем на две части – правый берег и левый. Мальчишки Красноярска, еще до изучения предмета «География», с раннего детства знали и гордились, что живут на берегах великой сибирской реки. Свое величие Енисей наглядно демонстрировал каждую весну мощным прохождением ледохода и следующим за ним половодьем.