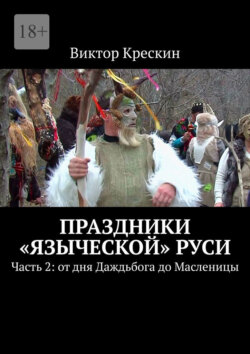Читать книгу Праздники «языческой» Руси. Часть 2: от дня Даждьбога до Масленицы - - Страница 4
1. ЛЕТО
1.1 ДЕНЬ ДАЖДЬБОГА
ОглавлениеВстреча Лета в народном календаре располагается перед сенокосом, в древности – период от Новца до Полнолуния: «Во время косовици всегда, сколько можно, на новь мѣсяцѣ до полни луни сѣнокосніи косить потребно» («Два документа о хозяйствѣ Кіевскихъ монастырей…»: 6, с. 732). У марийцев «время совершения языческих молений, приходившееся также на период окончания весенних полевых работ и начала сенокоса, определялось по очередному новолунию после летнего солнцестояния и в календарном плане соответствовало концу июня – началу июля. Кущо ария (неделя молений), Кущо кече (день моления) сначала проводились в каждой деревне, а затем все сылвенские марийцы собирались на общее моление в священную березовую рощу у д. Янгельда» (Черных А. В.: 8, с. 212). А сербы считают, что для покоса нежелательна первая четверть лунного месяца (Белова О. В., Толстая С. М.: «Лунное время»: 7, с. 148).
День Даждьбога 2025—2035
(С привязкой к растущей луне: Новолуние (Молодик) после Купалий и предполагаемая суббота)
2025 28 июня
2026 18 июля
2027 07/10 июля
2028 24 июня (вместе с Купалиями)
2029 14 июля
2030 3/6 июля
2031 23/28 июня
2032 10 июля
2033 29 июня/02 июля
2034 20/24 июня (вместе с Купалиями)
2035 07 июля
Учитывая различные климатические условия, дата начала сенокоса, как и время созревания плодов урожая в разных регионах отличается. Например, в Прикамье «В погожее лето сенокос начинали раньше, например с Иванова дня, а в дождливое – с Петрова. Самой ранней датой начала сенокоса считался Иванов день (07.07)» (Черных А. В.: 1, с. 250). Начало сенокоса по местным традициям может быть приурочено к Самсонову дню (27 июня/10 июля), Кузьмы и Демьяна (1/14 июля), в редких случаях – к Прокопьеву дню (8/21 июля). Однако в большинстве случаев сено начинают косить с «Петровок» (29 июня в старом, или 12 июля в современном стиле).
Для народного календаря существенной является не конкретная дата праздника, а временной диапазон, предваряющий или заканчивающий какой-либо важный период жизнедеятельности. Они не имели четкой «… дискретности и повторяемости, то есть строгого датирования праздников и ежегодного повторения этих сроков. Лишь в последующем развитии праздники постепенно сжимались до календарного дня, хотя и при этом не исчезало представление о том, что каждый значительный праздник распространяется на больший отрезок времени» (Власов В. Г.: «Формирование календаря славян…»: 9, с. 107). Лето должно обеспечить устойчивую сухую погоду в короткий промежуток времени, связанный с косьбой, сушкой и скирдованием трав.
В современных условиях желательная приуроченность к росту Луны не всегда совпадает с реальной ситуацией начала кошения, в связи с чем «усредненной» датой дня обращения к Даждьбогу, предположительно, является первое воскресенье июля.
День Даждьбога 2025—2035
(по дате первого воскресенья июля, без учета лунных фаз)
2025 6 июля
2026 5 июля
2027 4 июля
2028 2 июля
2029 1 июля
2030 7 июля
2031 6 июля
2032 4 июля
2033 3 июля
2034 2 июля
2035 1 июля
Везде, в разных регионах обряды имеют свои особенности. Например, в Тверской губернии «На день Рождества Іоанна Предтечи молодые крестьяне и крестьянки сбираются въ ночи въ яровыя поля и тамо на своих полосахъ, засѣянныхъ льномъ, втыкаютъ рябиновыя сучья, желая чтобъ ленъ вырос такъ высокъ, какъ воткнутыя рябины, между тѣмъ пляшутъ, поютъ пѣсни, играют хороводами до самой зари» (10, с. 88). Указание на время обряда – …в ночи… содержит обращение к хтоническим Божествам, к культу Великой Богини. Рябина, «женское» дерево, имеет прямое отношение к древнейшему образу Великой Праматери, чья «огненная» составляющая проявляется в различных праздниках и в честь мужских Божеств, сопутствуя им. До того, как Богиня наделила своими функциями Богов, рожденных ею в союзе с Родом, все небесные и земные стихии находились в её власти – власти Матери-Природы.
Забегая вперёд, отметим и особое отношение к Рябине. «В истории Адриановской Пошехонской пустыни упоминается о долгой сохранности культа огромной рябины, куда приносили больных детей. «В лето 7120 (1612) в Пошехонском у. Шигарские в. села Тужева церковный диак Иван Прокопиев ходил по вся лета к Илие пророку на пустош на реку Ухру на усть реки Ушлемы к рябине на Ильинскую пятницу, и изо окрестных весей священники приходили на тот день и с собой приносили икону мученицы Параскевы, нареченной Пятницей, на тот день прихожаху и молящееся мученице христовой Пятнице, и у рябины сквозь сучки проимаху дети малые и юные. А иные люди и в совершенном возрасте проимахуся» (Маторин Н. М.: 11, с 29).
День Даждьбога, следующий за Купальем, содержит обрядность, во многом отличающуюся от предыдущего праздника. Здесь отсутствуют сжигание обрядового изваяния, прыжки через костры и купание. Молодежные ритуальные бесчинства, приуроченные к церковному Петрову дню, напротив, отсутствуют на Купалиях. Встреча Солнца, которое «играет», в некоторых регионах упоминается утром после купальского праздника, однако не имеет широкого распространения. Практически везде Солнце на Купалиях «купается», а на день Даждьбога оно «играет» или, как в Минской губернии, – «сушится»: «На Купала – солнце купается, а на Ивана сушится. Видѣть могутъ только счастливые люди передъ восходомъ солнца» (Довнаръ-Запольскій М. В.: «Замѣтки по бѣлорусской этнографіи»: 12, с. 284). «Играет», но не «купается» Солнце также и в другие праздники – Возрождение и Великдень.
Купалье и день Даждьбога связаны сакральной последовательностью – изменением «возраста» Солнца. С этого перерождения время Ярилы закончилось и Солнце-Даждьбог обеспечивает будущий урожай. «Самый праздникъ Ярилы совершается въ разныхъ мѣстахъ въ разныя времена, то въ заговѣнье, то въ Петровъ день, то въ слѣдующее за нимъ воскресенье. По всему видно, что онъ потерялъ свое мѣсто и не можетъ пріурочиться ни къ одному опредѣленному времени. Христіанство произвело сильную путаницу среди языческихъ торжествъ, измѣнило ихъ смыслъ и перемѣшало ихъ между собою. Съ трудомъ можно отыскать въ уцѣлѣвшихъ обрывкахъ старины руководительную нить и возстановить ихъ языческій смыслъ» (Знаменский П.В: «Очерки изъ исторіи…»: 13, с. 27).
Однако «путаницы» тут нет. Даждьбог и его видимая нам ипостась – Сонце – и есть олицетворение лета, короткой летней поры. После явленной в оплодотворении растительности яри, он обеспечивает теплом и влагой созревание урожаев и рост трав.
Важность встречи Солнца в этом качестве в Тульской губернии в 1810 году описал Броневский В. Б.: «Праздникъ солнца. Съ большею торжественностію, съ нѣкіимъ піитическимъ восторгомъ крестьяне и крестьянки, въ лучшихъ праздничныхъ нарядахъ, въ ночь на Петровъ день (29 го Іюня) за часъ до свѣта идутъ на высоту холма, и тамъ, съ нѣмымъ, но краснорѣчивымъ восхищеніемъ, ожидаютъ величественнаго зрѣлища восходящаго солнца, что они называютъ караулить солнце. Они вѣрятъ, и никто ихъ въ томъ не разувѣритъ, что солнце въ сей день при восхожденіи своемъ играетъ: то спрячется, то покажется, то повернется, то внизъ уйдетъ, то блеснетъ голубымъ, то розовымъ, то разными вмѣстѣ цвѣтами. Едва первые лучи дневнаго свѣтила покажутся на горизонтѣ, запѣвало начинаетъ, и всѣ вдругъ подхватываютъ, привѣствуя солнце слѣдующею пѣснію: Ой Ладо! ой Ладо! На курганѣ Соловей гнѣздо завиваетъ…» (14, с. 375). В Калужской губернии в XIX веке встреча Солнца именовалась несколько иначе и сопровождалась соответствующим обрядом: «Загонять солнце подъ Петровъ день; – странный обрядъ этотъ тоже сопровождается особыми пѣснями» (Іеромонахъ Леонидъ (Кавелинъ): 15, с. 222). В некоторых регионах устанавливают качели, которые носят и развлекательный и ритуально-магический смыслы, для придания сил Даждьбогу на период от сенокоса до зажинальных обрядов.
Эти народные гуляния в честь Даждьбога вызывали резкий протест служителей церкви, не прекращающих борьбу с народной традицией Руси. «Стоглав. Вопросъ 27. Въ первый понедѣльникъ Петрова поста въ рощи ходятъ и въ наливки бѣсовскія потѣхи дѣяти. И о томъ отвѣтъ. Чтобы православные христіане въ понедѣльникъ Петрова поста въ рощи не ходили и въ наливкахъ бѣсовскихъ потѣхъ не творили, и отъ того бъ въ конецъ престали, понеже то все еллинское бѣсованіе, прелесть бѣсовская; и того ради православнымъ христіаномъ не подобаетъ таковое творити» (Сахаров И. П.: 16, с. 233). Помимо служителей церкви, в борьбу с народными традициями Стоглав обязывал включаться и светские власти на местах: «А индѣ и инымъ образомъ таковая непотребная дѣла творятъ въ Троицкую субботу, и заговѣнь Петрова поста въ первый понедѣльникъ ходятъ по селомъ, и по погостомъ, и по рѣкамъ на игрища, тамъ же неподобная еллинская бѣсованія творятъ, и тѣмъ Бога прогнѣвляютъ, въ невѣдѣніи согрѣшаютъ простая чадь, никѣмъ же возбраняежи, ни обличаеми, ни запрещаени, ни отъ священниковъ наказуема ни отъ судей устрашаеми таковая творятъ неподобная дѣла, святыми отцы отреченная» (там же, с. 236).
Однако запреты и преследования не останавливали наших предков, которые вынужденно сдвигали древние обряды к церковным праздникам, прикрываясь ими: «Петровскіе хороводы затѣваются съ раннею зарей; на гульбищахъ устроиваются качели. Въ Симбирской и Пензенской Гу6. поселяне на заговѣнье Петровскаго поста, а въ Саратовской наканунѣ Петрова дня провожаютъ весну, въ первыхъ мущины и женщины, нарядясь разными шутами, привязываютъ нѣсколько телегъ одну къ другой, запряженныхъ гусемъ, катаются на нихъ изъ конца въ конецъ селенія и заключаютъ веселье хороводомъ» (Снегирев И. М.: 17, с. 65). В этом описании мы видим те же сдвиги времени праздников: в некоторых местностях только в эти «петровские» дни заканчивается полный купальский цикл весенне-летнего периода и только сейчас происходит ритуал «проводов», присущий купальским. «Тамъ тогда носятъ по селенію наряженную куклу изъ соломы, съ пѣснями, потомъ бросаютъ ее въ рѣку» (Снегирев И. М.: 17, с. 65).
Резюмируя петровские гуляния, Снегирев И. М. относит их к периоду Купалий и несколько запоздалой встрече летнего периода: «Изъ приведенныхъ нами примѣровъ видно, что съ етимъ праздникомъ соединены у простаго народа обряды и обычаи, носящіе на себѣ печать древняго быта и древнихъ повѣрій, предшествовавшихъ епохѣ Рускаго Хрістіанства и послѣдовавшихъ за ней. При переходѣ отъ весны къ лѣту, онъ болѣе женскій, нежели мужескій, и по видимому, въ честь Солнца, боготворимаго подъ именемъ Купала или Ладо» (там же, с. 68),
В южных регионах Руси к дню летнего солнцестояния уже закончился период активности буйной зелени (Зелёные Святки) и заканчивался период колошения и цветения яровых (Русалии). В северных областях весенний сезон продолжается на 2—3 недели дольше, в связи с чем «прощание с Весной», окончание Зелёных святок и ритуалы с деревцами здесь проводятся ближе к летнему солнцестоянию и иногда позже него. Период «Русалий» в некоторых из этих районов или не имеет широкого распространения, или объединяется с «Зелёными Святками», сохраняя красный, русальско-купальский цвет провожаемого изваяния. «Въ степныхъ губерніяхъ въ этотъ день поселяне, сбираясь на сѣнной покосъ, одѣваются во все лучшее платье и веселятся весь вечеръ. Это называется у нихъ: проводы весны. Въ Саратовской губерніи дѣлаютъ соломенную куклу, убираютъ ее въ кумачный сарафанъ, на голову надѣваютъ чуплюк – кокошникъ съ цвѣтами, на шею подвязываютъ ожерелье. Эту куклу носять по селу съ пѣснями и, потомъ, раздѣтую, бросаютъ въ рѣку.… Въ Симбирской и Пензенской губерніи провожаніе весны отправляется на заговѣнье Петровскаго поста» (Сахаров И. П.: 18, с. 42). Не останавливаясь на сказанном, просто отметим: все растянутые по времени ритуалы, предшествующие Купале в районах с мягким климатом, полностью, в сжатом виде, отобразились в нескольких днях купальского праздника в северных и западных регионах или были приурочены к последующим церковным праздникам.
Отец-Небо многопроявлен. В него включено почитание Даждьбога-Солнца, Стрибога – повелителя ветров, Перуна – подателя дождей. Даждьбог (Дажьбог, Даждь-Нару, Дабъ, Даждь, Даждь-бог и др.) – Бог плодородия, солнечного света и живительной силы. По тексту «Слова о Полку Игореве», Даждьбог – прародитель славян, наш предок: «…погибашеть жизнь Даждьбожа внука, в княжих крамолах веци человекомь скратишась»…«Въстала обида в силах Даждьбожа внука…". Глоссы-толкования, вставленные в славянский перевод хроники Иоанна Малалы X или XI века и приписанные к записи 1114 года Повести временных лет в ее третьей редакции, говорят только о том, что что Сварог (Огонь) и Даждьбог близки к египетским Феосте (Vulcanus, Гефест) и Гелиосу (Солнцу), но не тождественны им по своим функциям.
Это здесь, в обрядах, обращенных к Богам, произносятся заветы о жертвовании им первых плодов, хлеба нового урожая, пчелиного мёда. «Начинать сенокос в новой, нарядной, „лучшей“ одежде было принято у русских повсеместно… На покос одевались красиво, в белом мужики, в белой косоворотке»… (Черных А. В.: 1, с. 252, Прикамье). На Руси есть поверье, что в день Афанасия летнего «… месяц на восходе „играет“, и это предвещает хороший урожай» (Седакова И. А., Толстая С. М.: «Афанасий»: 19, с. 7) [день Св. Афанасия 18 июля в современном календаре]. В Болгарии переломным моментом летнего сезона также считается Афанасий летний. В Пловдивском крае к этому дню приурочены летние превентивные обряды вызывания дождя – пеперуда и черкуване за дъжд (молитва о дожде).
Временной промежуток между уходом Ярилы и последующим появлением Новца – дня Даждьбога сопровождается ритуальными ночными бесчинствами молодежи, пик которых приходится на новолуние. Обязательные для этого времени «проказы», деструктивные действия, «включающие символическую кражу из чужих дворов телег, повозок, упряжи, орудий труда и любых бытовых предметов, забрасывание их в крапиву, на пустыри, в воду, затаскивание на крышу дома, загораживание этими предметами входа в дом, возведение преград на улицах села и т.п.» (Виноградова Л. Н.: «Южнорусские народные верования…»: 5, с. 235) в той или иной форме известны у всех славян; но более характерны для западно- и восточнославянской традиций. Магия этих действий, созвучная с прядением «наоборот» и другими схожими ритуалами, направлена на погашение возможной сокрушительной силы хтонических Богов и духов в период перерождения Солнца, и её перенаправление на объекты, которые в меньшей степени влияют на жизнедеятельность общества в целом: «…фулюганят на улице: …залезут на огород, потаскают картохи или тама поломають плети. Залезуть, подёргають… Забор – свалють… Кому настановять каких столбов, ещё что-нибудь накладуть…» (Гайсина Ю. В.: «Календарные праздники…»: 20, с. 20, Тульская обл.). «Обычай „караулить солнце“, совмещенный с действиями охраны людей и скота от злых сил и связанный с ритуальными бесчинствами молодежи» (Лазарева Л. Н.: 21, с. 59), известный под названиями «городушки», «шухарилки» и прочих, было наиболее популярным в Тульской, Калужской, Рязанской и Орловской областях, в Заонежье вплоть до конца прошлого века.
Бинарная оппозиции свет/тьма, появившаяся после ритуальной «смерти» Ярилы, требовала закрытия этого переходного времени, возрождения света. «Караулить Солнце» – значит дать ему возможность переродиться, заменить Ярилу. «Городушники» своими действиями вовлекают в противостояние с хтоническими силами всё «живое» население. Сон в такую ночь, пропуск утренней зари и восхода чреват проблемами в личном хозяйстве не только на следующий день, но и на весь сезон. Хаос переходного времени, такой-же как и на Зимних Святках и на Маслянице, где перемешаны «верх» и «низ», «своё» и «чужое», где присутствуют и соприкасаются с людьми силы потусторонние, необходимо разделить и упорядочить, вернуть состояние организованного пространства. К утру сёла оглашаются веселыми криками, смехом, «игрой» на косах и Солнце встречают в лучших праздничных одеждах, с обрядовыми песнями. С этого дня ритуальные бесчинства прекращаются до Зимних Святок, когда остывающее светило вновь погрузится в хтонический мир для следующего возрождения. Е.Р.Лепер, наблюдавшая обычай «караулить Солнце» или «зорева́ть» в Новосильском уезде Орловской (до районирования – Тульской) губернии летом 1927 года накануне Петрова дня (29 июня в старом стиле), отметила совместное участие в ночных забавах парней и девиц.
«Городушки», в основном, привязаны к новолунию и кануну Новца (первая таблица дня Даждьбога), когда наступает максимальная активность сил нижнего мира. Но в отдельных регионах этими действиями сопровождается весь период – от Купалий до дня чествования Солнца в ипостаси Даждьбога – : «Молодежь гадала и проказила [от Иванова] до Петрова дня» (К. К. Логинов: «Русский народный календарь Заонежья»: 22, с. 95).
Такое озорство свойственно не только летнему периоду, но и во все праздники «кривого» времени, особенно – в дни, связанные с солнечным календарем. «Наиболее распространенная привязка в Ульяновском Присурье – святки, когда эти действия традиционно приписывались «нечистой силе» и «колдунам», роль которых выполняли участники обходов ряженых» (Морозов И. А.: «Озорство»: 24, с. 201). Увозят в другое место сани, телеги, затаскивают на крышу или в иные труднодоступные места плуги и бороны, разбрасывают поленницы, перегораживают улицы и выходы из дома. Эти действия никогда не сопровождаются нанесением порчи имуществу, воровством, причинением вреда здоровью и носят характер создания препятствия, нагромождения и перестановки различных предметов спящих хозяев в хаотичном беспорядке. «Вот то дров накладут пално на крылец, то тилегу сриди улицы выставют. Утрам пагонют стада, а там вся дарога загарожина. Эта летам, летам, в любоя время» (там же, с. 200). Однако тех, кто «проспал» Солнце, позже всех выгнал скотину, иногда наказывали жестоко. Песня, именуемая в Калужских деревнях «Килой», носит корильный характер и нередко сопровождается оскорбительными действиями: «А которая опоздала, та хороша была. Оскорбляли и били. Вот одна молодка опоздала, свёкор выгнал, а потом кийком (большая палка, дубинка.) поразогнал»;» [Тому, кто] больше всех спит. Величали их. К берёзке привязывали ногами и поднимали вверх… Поют песню «Кила»» (Иванова А. А.: «Петровская кила по зорям ходила…»: 25, с. 8).
В условиях общинной жизни пренебрежительное отошение одного человека к чествованию потусторонних сил, обращению к ним в период сакрального перехода могло повлечь за собой тяжелые последствия для всех.