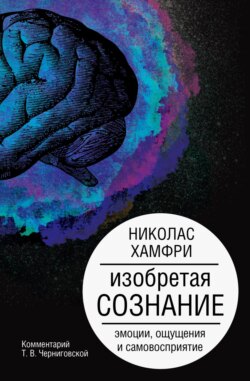Читать книгу Изобретая сознание. Эмоции, ощущения и самовосприятие - - Страница 5
1. Сентиентность и сознание
ОглавлениеНа предыдущих страницах я часто использовал термины «сентиентность» и «сознание», не обращая внимания на определения. Это легко сделать, когда вы нежитесь в ванне. Легко это сделать и тогда, когда вы сидите за столом и пишете научную работу. Признаюсь, иногда я противоречу сам себе.
Учитывая серьезность нашей темы, мы не можем позволить себе небрежно относиться к языку. Поэтому впредь я буду осторожнее, но при этом стану более многословным.
Начнем со слов «сентиентный» и «сентиентность». Прилагательное «сентиентный» вошло в употребление в начале XVII века для обозначения любого существа – человека или кого-либо еще – реагирующего на сенсорные раздражители. Но впоследствии понятие стало более узким, так как возникла необходимость подчеркнуть внутреннее качество опыта: какие ощущения испытывает субъект. И к тому времени, когда стали обсуждаться вопросы сентиентности, о признании существ сентиентными, в частности, в книге 1839 года о жестоком обращении с животными[1], – речь шла о том, есть ли у животных чувственный опыт, подобный нашему.
Таким образом, сентиентность, по крайней мере в первом случае, приобретает определение через объяснение. Если мы задаемся вопросом, является ли другое существо сентиентным, то наше понимание ситуации будет основываться на том, чем это является для нас. Быть сентиентным – значит иметь соответствующий опыт: например, воспринимать красный цвет, глядя на мак, или испытывать ощущение сладости, пробуя кусок сахара.
Однако, как ученые, мы должны отстраниться от опыта первого лица. Мы должны понять, чем объективно являются ощущения. Я буду возвращаться к этому снова и снова по мере того, как мы будем двигаться дальше. Но пока скажем, что ощущения – это, по сути, ментальные состояния – идеи, – которые передают то, что происходит с нашими органами чувств: свет в глазах, звук в ушах, запах в ноздрях и так далее. Они предоставляют нам как субъектам информацию о сенсорных раздражителях, распределении и интенсивности, телесной локализации раздражения и особенно о том, как мы оцениваем их: боль в пальце ноги – это ужасно; красный цвет – наполняет меня энергией.
Но «получение» этой информации – лишь половина дела. Ведь, как может подтвердить каждый из нас, ощущения имеют качественный аспект, который отличает их от всех других ментальных состояний и установок. У боли, запаха, зрительного восприятия и так далее есть нечто общее, чего нет у наших мыслей, убеждений, желаний и прочего. За неимением лучшего слова скажем, что это нечто исключительно «очаровательное».
Мы можем не знать точно, что это за очаровательное нечто, но мы можем быть уверены, что оно есть. Предположим, что у вас появился новый орган чувств в дополнение к тем, которые уже есть: например, орган, воспринимающий магнитные поля. Ваши ощущения будут так же отличаться от зрительных, как зрительные от тактильных или слуховых. Но если они по-своему столь же очаровательны, то вы сразу поймете, что они находятся на одном уровне с остальными.
Теперь, когда мы спрашиваем о наличии сентиентности у нечеловеческого существа, применяется тот же самый принцип. Ощущения такого организма не обязательно полностью совпадут с нашими. Существо может обладать органами чувств, которых нет у нас. Но качество его ощущений должно быть таким, что, будь они нашими, мы бы признали их принадлежность к тому же «очаровательному» классу.
У философов есть другое слово. Они называют это особое качество «феноменальным свойством», а его конкретные примеры – такие как феноменальная краснота или сладость, – «квалиа». Более того, когда люди испытывают квалиа, то говорят о том, «на что это похоже» или «каково это»: каково чувствовать боль от укуса пчелы, и было ли это – или могло ли быть – похоже на ощущения магнитного севера. Хотя ни один из этих терминов не является идеальным, я буду использовать их так, как это делают другие. Существо является разумным, если (но только если) оно осознанно испытывает квалиа – в силу чего происходит становление существа самим собой.
* * *
Давайте обратимся к термину «сознание». Когда мы осознаем, что имеем феноменальные качества, можно сказать, что мы «феноменально сознательны». Для многих философов феноменальное сознание – это единственный вид сознания, который имеет значение. Дэвид Чалмерс, например, говорит: «Я использую «опыт», «сознательный опыт» и «субъективный опыт» так или иначе взаимозаменяемо как синонимы феноменального сознания».[2]
Однако здесь нам следует проявить некоторую осторожность. Слово «сознание» используется гораздо дольше, чем «сентиентность» или «феноменальное сознание», и за это время оно приобрело значительно более широкий смысл как в повседневной речи, так и в психологии. Самое древнее значение, восходящее к классическим временам, связано с самопознанием: мы говорим, что человек осознает психическое состояние, когда он знает, что оно у него есть. Современное значение в когнитивной науке связано с обработкой информации: мы говорим, что состояние является осознанным, когда его содержимое доступно глобальному рабочему пространству в мозге. Ни одно из этих определений не ограничивает сознание состояниями, обладающими феноменальным измерением.
Феноменальное сознание, несомненно, является разновидностью сознания. Мы знаем о наших ощущениях. Они влияют на наши суждения и решения. Но, по сравнению с другими ментальными состояниями, которые мы осознаем, ощущения явно образуют отдельную категорию состояний. Чтобы понять, что в них такого особенного, нам придется рассказать историю феноменального сознания отдельно от истории сознания в целом.
Итак, в самом начале давайте посмотрим на ситуацию поближе, чтобы понять, к чему относится феноменальное сознание.
* * *
Мы можем начать с простого определения, вернувшись к первоначальному значению. Сознание означает понимание того, что находится в уме. Ваши осознанные ментальные состояния включают в себя только те, к которым в любой момент времени у вас есть интроспективный доступ и субъектом которых вы являетесь.
К подобным мы относим всевозможные воспоминания, эмоции, желания, мысли, чувства и так далее. Когда вы занимаетесь самоанализом (интроспекцией), то наблюдаете за этими различными состояниями благодаря некоему внутреннему видению. Таким образом, вполне естественно – и люди повсеместно так и поступают – считать сознание своего рода окном в разум, собственным взглядом на сцену, где разыгрывается ваша психическая жизнь.
А это взгляд с чьей точки зрения? Ну, чьей же еще, как не вашего сознательного я. На чем бы ваше я ни концентрировалось, оно становится единственным субъектом всех состояний. И это говорит об одной из самых поразительных особенностей сознания: его единстве. В различных состояниях и в разное время сознательный субъект остается тождественным самому себе. Есть только один «Ты[3]» у окна, только одно я. Когда вы чувствуете боль, или хотите позавтракать, или вспоминаете лицо матери, в каждом случае это один и тот же вы.
Нам это может показаться очевидным, будто бы так и должно быть. Но на самом деле единство сознания отнюдь не является логической необходимостью. Вполне возможно – и даже психологически убедительно – что в вашем мозге может находиться несколько независимых «я», каждое из которых представляет собой отдельный сегмент сознания. Фактически именно в таком раздробленном состоянии вы и появились на свет. Однако, к счастью, оно не сохраняется надолго. Когда ваша жизнь началась и ваше тело – единственное тело – стало взаимодействовать с внешним миром, этим отдельным «я» было суждено зазвучать в сплоченном ансамбле, в тон единой музыкальной линии вашей жизни.
Единство «я» лежит в основе самой очевидной когнитивной функции сознания, которая заключается в создании того, что Марвин Мински назвал «сообществом разума». Так же как – и именно поэтому – есть только один «Ты» у окна, смотрящий внутрь, так и по ту сторону будет только один разум. Все, что находится в сознании, становится доступным для общего пользования всему остальному. Информация из разных «агентств» попадает на один стол, и именно здесь ваши субличности могут встретиться, пожать друг другу руки и вступить в плодотворный перекрестный разговор. Это означает, что теперь у вас есть универсальный центр планирования и принятия решений – осознаваемое рабочее пространство, где вы можете распознавать закономерности, соотносить прошлое и будущее, расставлять приоритеты и так далее. Компьютерный инженер может назвать это «экспертной системой», предназначенной для прогнозирования окружающей обстановки и принятия разумных решений. Вы, конечно, воспринимаете это как «Я».
Затем, наряду с этим, появляется возможность другого рода. Как только вы сможете наблюдать за взаимодействием частей разума на одной сцене, у вас появится удобный случай осмыслить это взаимодействие и проследить его историю. Наблюдая, например, за тем, как «убеждения» и «желания» порождают «мечты», которые приводят к «действиям», вы обнаружите, что ваш разум имеет четкую психологическую структуру. Таким образом, вы начнете понимать, почему вы думаете и поступаете так, как поступаете. Это означает, что вы можете объяснить себя самому себе, а также и другим людям. Но, что не менее важно, это подразумевает, что у вас есть модель для объяснения себя окружающим. Когда вы встречаете другого человека, то можете предположить, что его разум работает так же, как и ваш. Так станет ясно, о чем он, скорее всего, думает и как себя поведет. Сознание заложило основу для того, что психологи называют «теорией разума».
Подведем итог: сознание преображает работу вашего разума на двух уровнях. Во-первых, оно создает когнитивное рабочее пространство, которое делает вас более интеллектуальным. Во-вторых, оно обеспечивает связный рассказ о себе, который помогает понять смысл собственного и чужого поведения.
* * *
Заметьте, что до сих пор мы не отводили никакой особой роли феноменальному опыту. Теперь давайте спросим: где же находятся ощущения, обладающие феноменальными качествами?
Ощущения имеют много общего с другими состояниями сознания. Вы получаете доступ к ним посредством интроспекции, и ваше единое «я» является их субъектом. Они доступны в рабочем пространстве, и информация, которую они несут о сенсорных стимулах, играет важную роль в экспертных расчетах вашего разума. Более того, ощущения играют ключевую роль в я-нарративе.
Но вот в чем загвоздка. Ощущения выполняли бы те же функции, даже если бы не обладали дополнительным феноменальным свойством. Ничто не говорит о том, что феноменальное качество необходимо, что информация о сенсорных стимулах не может быть использована без него или что единственный вид полезного я-нарратива, – это тот, который сосредоточен на феноменально осознанном «я».
Таким образом, непосредственный ответ на вопрос о том, откуда берется феноменальное сознание, по-видимому, заключается в том, что оно вообще не должно появляться. Существо, чьи ощущения не обладают ни одним из тех качеств, которые мы, люди, считаем само собой разумеющимися, вполне может обладать преимуществами, которые дают наличие сознательного «я». Существо, лишенное этого опыта, может быть способно к самоанализу, может знать собственный разум, описать себя, быть высокоинтеллектуальным, целеустремленным, мотивированным, проницательным.
И все же, подождите. Такое существо, согласно нашим определениям, хотя и обладало бы сознанием, не было бы сентиентным. У него не было бы опыта, подобного нашему. Таким образом, получается, что несентиентное существо может быть разумным.
Конечно, нам, людям, трудно принять данный факт. Насколько мы можем себе представить, сознание без феноменального опыта может показаться настолько анемичным, что мы бы усомнились, стоит ли вообще называть его «сознанием». Однако если нас как ученых интересует, чего сознание может достичь на уровне ментальной организации, то очевидно, что нам следует принять реальность. Предположим, мы встретим существо, которое будет наглядно обладать когнитивными способностями, перечисленными в предыдущем абзаце, без каких-либо дополнительных феноменов – короче говоря, несентиентное существо, которое ходит, плавает, и крякает, как сознательное существо: тогда, конечно, мы будем вынуждены признать, что это разумное существо.
Но я согласен, что это может звучать не совсем правильно. Это, конечно, не наш тип сознательного существа. Поэтому, чтобы избежать двусмысленности и напомнить о том, чего может не хватать даже разумной утке, я предлагаю, чтобы отныне, когда мы говорим о сознании как об общем термине для интроспективно доступных ментальных состояний – и как о посреднике вышеперечисленных когнитивных операций – мы будем использовать термин «когнитивное сознание». Но когда мы говорим конкретно о доступе к ощущениям, которые обладают феноменальными сенсорными качествами, мы называем это «феноменальным сознанием».
* * *
Я должен сделать философское отступление о данных терминах. Философ Нед Блок в своей влиятельной статье в 1995 году утверждал, что мы должны проводить различие между тем, что он назвал «доступным сознанием», и «феноменальным сознанием».[3] Это может звучать точно так же, как предложенное мной различие. Но это не так. И я хочу дистанцироваться от него.
Под феноменальным сознанием Блок действительно подразумевал опыт ощущений с феноменальными свойствами или квалиа; но он утверждал, что квалиа отделены от остального разума и не играют никакой роли в управлении мыслями, речью или действиями. Но, на мой взгляд, в этом нет особого смысла. Блок фактически выступал против идеи единства сознания: «Ты как субъект квалиа – это другой Ты, не тот, который является субъектом всех остальных ментальных состояний». Это не только нелогично, но и не учитывает того, что действительно отличает квалиа: это не способ доступа к ним, а их содержание – то, на что они похожи.
В качестве аналогии рассмотрим следующее. У вас есть библиотека книг, любую из которых можно свободно взять с полки. Все они содержат тексты, но в некоторых также есть иллюстрации. В любой момент времени на столе будут лежать несколько книг, и вы будете их просматривать, сравнивать и т. д. Все они одинаково доступны. Однако книги с картинками будут отличаться качественным содержанием – это заставит вас ценить их больше, чем книги, которые содержат один лишь текст.
Теперь, чтобы соотнести эту метафору с двумя видами сознания, предположим, что книгам с картинками соответствуют ощущения с феноменальными свойствами. В таком случае будет задействовано когнитивное сознание при чтении любой открытой книги, но феноменальное сознание – только при чтении книги с картинками.
Так уж сложилось, что мы, люди, редко оказываемся в ситуации, когда когнитивное сознание не является феноменальным. Пока мы бодрствуем, мы постоянно испытываем какие-то ощущения с феноменальными свойствами – поэтому у нас на столе всегда открыты книги с картинками. Правда, есть некоторые поразительные исключения, когда феноменальность отсутствует: состояние хождения во сне является таким случаем[4], а также состояния, возникающие в результате повреждения мозга – в частности, «псевдослепота», о которой мы поговорим в следующей главе. Но, даже если это редко случается с людьми, есть один важный момент: возможно, есть животные, для которых так было всегда.
Ученые пока не знают, когда в ходе эволюции ощущения приобрели феноменальные свойства, когда, так сказать, появилась книжка с картинками. Именно это мы и хотим выяснить. Но я сразу скажу свое мнение. Я думаю, вполне возможно, что феноменальное сознание появилось относительно поздно, и уже после того, как сформировалось когнитивное сознание. Если это так, то на протяжении большей части истории наши предки могли быть когнитивно, но не феноменально сознательными – сознательными, но несентиентными. И, предположительно, то же самое можно сказать о многих животных и в настоящее время.
Вопрос в том, как мы можем определить это по поведению животного?
* * *
Осьминог взламывает кодовый замок, чтобы выбраться из ящика. Ворон заранее проверяет, есть ли у него что-нибудь на завтрак. Шимпанзе превосходит человека в задаче на запоминание. Все это почти наверняка свидетельствует о работе когнитивного сознания. Но подобные интеллектуальные подвиги не имеют прямого отношения к феноменальному сознанию. Инженеры скоро внедрят нечто похожее на когнитивное сознание в разумные машины (если уже не внедрили), и эти машины будут умнее любого из нас… И что тогда?
Еще в 1820 году философ Иеремия Бентам рассуждал об этом: «Вопрос не в том, могут ли они размышлять, и не в том, могут ли они говорить, а в том, могут ли они страдать?»[5] Я сейчас поднимаю эти вопросы, чтобы найти ответ на самый главный: «Вопрос не в том, есть ли у них глобальное рабочее пространство или я-нарратив, а в том, являются ли они разумными (сентиентными)?». Если признаков когнитивного сознания будет недостаточно, чтобы дать ответ, что тогда?
Астроном Карл Саган заметил, что «необычные утверждения требуют необычных доказательств». Утверждение о том, что любое существо – человек или кто-либо еще – сентиентно, настолько экстраординарно, насколько это возможно. Это утверждение экстраординарно даже по отношению к нам. «Единственное, что я знаю, – это то, что я обладаю сентиентностью». В вашем случае, похоже, у вас действительно есть экстраординарное доказательство: вы непосредственно знакомы с феноменальными свойствами ваших ощущений посредством самоанализа. Для вас, как ни для кого другого, очевидно, что вы сентиентны. Теперь мы должны спросить: поскольку наблюдатель как третье лицо не может напрямую испытывать ваши ощущения, существует ли какое-то другое общественное наблюдение, из которого он мог бы сделать вывод о вашем опыте?
Я отвечу, что, на мой взгляд, есть. Это символ веры. Но подкрепляется одним очень весомым аргументом: эволюционным. Мы знаем, что в какой-то исторический момент сентиентность появилась в мире как удивительная внутренняя особенность разума животных, от которых произошли люди и другие разумные виды. У нас также есть веские основания полагать, что существует только один способ, с помощью которого новые видовые особенности могут появиться и стабилизироваться в ходе эволюции, – это естественный отбор – процесс, открытый Дарвином, с помощью которого наследуемые признаки распространяются в популяции, если они помогают их обладателям победить в борьбе за выживание и размножение. Вполне логично, что для того, чтобы признак был отобран, он должен оказывать определенное влияние на общественную сферу.
В начале этой главы я сказал, что каждый из нас определяет идею сентиентности, основываясь на личном опыте. Теперь я хочу сказать, что естественный отбор не может так распознавать факт сентиентности. Вы вместе с новым признаком не сможете лучше выживать, если он бесполезен. У вас должно быть что-то внешнее, за что естественный отбор может зацепиться, – что-то, что влияет на биологическое выживание.
Это не значит, что для того, чтобы тот или иной признак был отобран, ваш опыт должен быть понятен для других так же, как и вам. Вы не обязаны демонстрировать всем свой опыт. Но он действительно должен быть тесно связан с общественными последствиями, которые могут быть «замечены» естественным отбором. И если естественный отбор отмечает эти последствия, то, предположительно, они должны быть видны и другим видам внешних наблюдателей – ученым, философам, поэтам? – если только они знают, что искать.
Именно это соображение, я надеюсь, придаст смысл нашим поискам того, кто еще, кроме людей, является сентиентным. Оно должно придать нам смелости – возможно, вопреки собственной интуиции – попытаться пойти по стопам природы и установить номинальную стоимость сентиентности. Мы можем попытаться разобраться в том – или, возможно, выработать первые принципы, – как феноменальное сознание изменяет мироощущение субъекта в каком-то плане, отличном от интеллектуального, и как это влияет на выживание.
Но все же нам следует прийти к правдоподобному объяснению того, как феноменальное сознание может быть порождено физическим мозгом и телом. Ведь без физикалистского[4] объяснения нас будут преследовать философские скептики (а их немало), которые предпочтут поверить, что сознание возникло вне физики и не развивалось как биологическое явление.
* * *
Позвольте мне сделать паузу. Это сложные вопросы. Я задаю их уже пятьдесят лет. И могу сказать, что все это время я одиноко следовал своему собственному пути. Мало кто из моих коллег смотрел на эти проблемы так, как я, или искал ответы в тех местах, где искал я.
Каждый подходит к подобным вопросам со своей точки зрения, обусловленной «психологической установкой» – уже существующей системой концепций и убеждений. И как бы мы ни старались быть объективными, она будет зависеть от идей и примеров, с которыми мы столкнулись на своем пути. В классическом исследовании психологической установки людям показывали двусмысленный рисунок крысы/человека после того, как они были подготовлены – можно сказать, расслаблены – путем просмотра рисунков людей или животных. В таком случае, если посмотреть на картинку с одной стороны – можно увидеть крысу, посмотреть на нее с другой – и увидеть человека.
Аналогичные искажения существуют и на уровне теорий. Подойдите к вопросу происхождения видов после прочтения книги Бытия, и вы поймете «разумный замысел», но начните рассуждать после путешествия на корабле «Бигль[5]», и вы согласитесь с идеей естественного отбора. А теперь подойдите к проблеме сентиентности со стороны нейронауки – или буддизма… или эволюционной психологии… или разведения кур… или чтения Беатрис Поттер[6] – и ваши ответы будут каждый раз разными.
Как подойти к проблеме с той стороны, с которой подошел я? Что ж, я хочу рассказать вам об этом немного подробнее.
3
Здесь и далее «Ты» – касается именно психологического ощущения самости, внутреннего «я». – прим. ред.
4
Тезис, согласно которому все, что существует, является либо физическим, либо производным от физического. – Прим. пер.
5
Корабль, на котором Чарльз Дарвин совершил путешествие, благодаря которому пришел к идее эволюционного учения. – Прим. пер.
6
Английская детская писательница и художница, жившая в 1866–1943 гг. – Прим. пер.