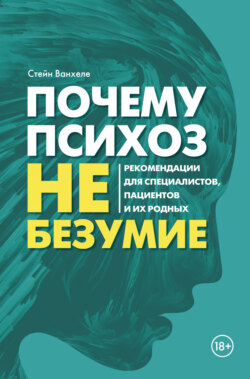Читать книгу Почему психоз не безумие. Рекомендации для специалистов, пациентов и их родных - - Страница 6
Глава 1. Психоз – это душевное расстройство, а не болезнь
Душевная жизнь выстроена подобно фильму, пока функционирует речь
ОглавлениеЗвучит просто: при помощи слов и предложений мы создаем истории и обретаем цель и смысл существования. Если по какой-то причине этот процесс нарушается, свобода начинает подталкивать нас к краю пропасти и низвергает в бездну неопределенности, которая вызывает безумие. Ведь без слов исчезает смысл. С этой точки зрения психоз подобен кризису веры: вы больше не в силах держаться за установки реальности, которые прежде казались воплощением истины. И чтобы осознание этого окончательно не раздавило нас, человечество выработало способность щелкать переключателем, который активизирует режим безумия, именуемый психозом.
Это способ справиться с реальностью, которая перестает соответствовать здравому смыслу. Но каким бы заметным ни был этот дисбаланс, возникающее в результате безумие порождает фрагменты смысла. И это лучше, чем вообще ничего. В этом смысле психоз – это предельное переживание. Оно спонтанно возникает у тех, кто утратил веру или не может найти утешение в повседневных историях и объяснении того, зачем они живут. Когда истории лопаются, а слова распадаются, даже самые странные сценарии воплощаются в реальность, а реальность, как следствие, становится предельно странной. И внезапно человек понимает, что оказался героем триллера, в котором повседневная жизнь наполнена кошмарными и до ужаса реальными событиями.
Лопающиеся истории? Разваливающиеся слова? Триллеры? Все это может навести вас на мысли о том, как язык вообще может оказывать такое большое влияние на то, что мы воспринимаем, чувствуем и думаем. Нейропсихолог Антонио Дамасио[7] смотрит на это так: наш мозг постоянно монтирует фильм. Кадры для него приходят как изнутри нас, так и из внешнего мира10.
Мы воспринимаем внутренний мир через ощущения и эмоции. Вспомните такие телесные состояния, как возбуждение, напряжение, дискомфорт и стресс. В свою очередь, внешний мир мы воспринимаем через органы чувств. Мы наблюдаем образы глазами, звуки – ушами, вкусы – языком, а запахи – носом. Целая сеть из различных отделов мозга обрабатывает внутреннюю и внешнюю информацию, составляя из нее единое целое. Сеть, которая собирает эту информацию, обширна и тянется от глубоких отделов мозга к лобной доле, расположенной под кромкой черепа. То есть чувственные впечатления переплетаются с эмоциональными ощущениями. Восприятие и чувства существуют параллельно.
Именно так у нас в головах и рождается тот самый «прямой эфир», который мы зовем сознанием. Например, я понимаю, что в мою сторону несется пожарная машина с включенной сиреной, не только благодаря тому, что слышу громкие звуки и вижу мерцание проблесковых маячков, но и потому, что мое тело переключается в состояние повышенной готовности.
И более того, возможности воображения не ограничиваются обработкой информации от внутренних и внешних раздражителей или выстраиванием закономерностей из потока информации. В первую очередь мозг связывает кинематографические образы, которые создает, с языком. Для мозга это способ упорядочить и отфильтровать огромное количество информации, и это невероятно сложная операция. Язык формирует четкий образ мышления, который определяет восприятие реальности. Что-то притягивает наше внимание, а что-то – нет. Что-то кажется нам правдой, а что-то – ложью. Избирательность – главный критерий того, как мы организуем мир вокруг себя. Скорее всего, именно слова определяют то, что мы осознаем и чувствуем. Иными словами, дело не в том, что язык организует переживаемое нами ретроспективно. Он направляет наш опыт с самого начала и фильтрует образы соответствующим образом.
Клетки мозга без остановки сплетают буквы, слова и предложения с внутренними и внешними впечатлениями, а также обширными лингвистическими комментариями и объяснениями. Я моментально распознаю в автомобиле с громкой сиреной пожарную машину и съезжаю на обочину, чтобы она могла быстрее проехать. Контекст ситуации подсказывает, как нужно себя вести. Кроме того, есть большая вероятность того, что звук сирены всколыхнет в моем сознании ассоциации и воспоминания ситуаций, которые мне довелось пережить. Именно связь со словами и языком переводит «прямой эфир» в моем сознании в сценарий, обладающий бесконечным содержательным потенциалом.
Или, выражаясь шире и формальнее, культура соединяется с природой через язык. Как итог, язык всегда «воплощается». То есть наш человеческий способ общения отличается от того, как между собой общаются машины. Компьютеры с искусственным интеллектом способны общаться, но они не могут прочувствовать, что говорят. У людей же все иначе. Поэтому мы говорим так много, даже если нам особо нечего сказать. Так мы регулируем уровень спокойствия и возбуждения, сохраняем связь с телом и реакциями окружающих.
А потому наши взгляды на жизнь во многом основаны на языке. Он объединяет события в истории и приводит в мир множество самых разных людей, таких как вы и я. Людей, которые переживают мириады событий во времени и пространстве.
Это удивительное явление, но у нас нет возможности остановиться и проанализировать его. Задумайтесь на мгновение, что значат следующие слова: реальность разыгрывается здесь и сейчас. Однако опыт превращает ее в нечто иное, ведь сила воображения, основанная на языке, позволяет нам избежать реальности. Согласно восточной традиции, жить здесь и сейчас почти невозможно. События выстраиваются во времени при помощи слов. То, что я проживаю сейчас, вызывает к жизни воспоминания о давно ушедших днях и одновременно формирует ожидания от будущего. Это приводит нас к осознанию того, что опыт может быть поступательным. Сперва было прошлое. Теперь у нас есть настоящее. А в дальнейшем наступит будущее.
Интересно и то, что организующее действие языка на реальность не ограничивается сознанием отдельно взятого человека; это социальный процесс. Слова и истории снабжают нас кирпичиками, из которых мы выстраиваем идеи, которые приходят извне, через общение с людьми, которые принадлежат к той же языковой среде, что и мы. Лакан говорил, что для нас, людей, язык – это Другой, а Другой – это язык. Так формируется связь. Из взгляда на мир с позиции слов и мыслей, на которые ссылаются окружающие, мы чувствуем общность и осмысленность. Когда мы делимся своими идеями и рассказами, это дает нам ощущение того, что наши мысли «в порядке», а мы двигаемся в нужном направлении.
Говоря проще, язык позволяет нам отсеивать раздражители, размышлять над правилами реальности и делиться опытом с другими. Но способность к созданию нового ставит нас в уязвимое положение. Во время психоза пространство для маневра, которое дарят нам слова, рушится. Символическое утрачивает интегрирующее влияние на наши мысли, и это приводит к необычным последствиям. Эйген Блейлер[8], пионер психиатрии начала XX века, предположил, что во время психоза язык теряет способность осмыслять, отсеивать и интерпретировать мир. Как правило, слова позволяют нам установить связь между эмоциями, восприятием, мыслительным процессом и прочим. Когда же на первый план выходит психоз, объединяющая сила языка рушится, а понятный мир кажется гнетущим, искаженным и запутанным. Осмысленные слова покидают нас11.
Во время разговоров и размышлений мы покрываем реальность сетью слогов. В каком-то смысле это попытка установить контроль. Во время психотического эпизода в этой сети появляются дыры, через которые реальность сбегает из «плена» мыслей и предстает в виде угрозы.
Говоря языком Лакана, в такие моменты в цепи означающего появляется брешь: сеть из слогов («означающих»), которая позволяет нам держать реальность под контролем, внезапно рассыпается. И как результат наши рассказы о реальности утрачивают всякий смысл. Структура жизни, лишенная языка и нарратива, распадается. Впечатления из внешнего мира переполняют нас, а опыт и слова рикошетом разлетаются вокруг нас. В худшем случае исчезает всякое подобие порядка, остается только полная неразбериха в голове12.
В случае с Марио психическое расстройство затронуло лишь часть восприятия реальности. Он редко слышал свою воображаемую подругу во время наших разговоров. Но процесс распада языка может быть намного более разрушительным и ставить под угрозу самовосприятие человека. Хотя язык дает нам пространство для маневра и возможность не переводить жизнь в режим автопилота, он же ставит нас перед дилеммой: если мы вольны задавать вопросы, то как далеко можно зайти, подвергая реальность сомнению?
Лакан считал, что люди стоят перед выбором: глупость или безумие. Слабоумие (dйbilitй mentale или психическая дебильность) означает наивную веру в фантазии о реальности. И фантазии эти не освобождают человека. В таком состоянии мы не анализируем события и, как правило, используем слова, которые черпаем из чужих историй. Это помогает нам объединяться с единомышленниками, но также ведет к повторяемости.
Люди, которые размышляют и отказываются от традиционных условностей, способны выбраться из порочного круга повторений. Так они обретают свободу действовать и открывают себе путь к прозрениям. Но и эта стратегия несет в себе большие риски, потому что люди могут утратить контакт с реальностью и скатиться в безумие. И, как утверждает Лакан, в этом смысле безумие ограничивает свободу. Подвергая сомнению основы существования, вы систематически подрываете собственную стабильность, и единственный выход из такого положения – это безумие.
Вспомните таких гениев, как Георг Кантор[9], Фридрих Ницше[10] и Людвиг Витгенштейн[11]. Их скептицизм по вопросам религии, науки и культуры укоренился настолько, что без опоры на них они сошли с ума.
7
Антонио Дамасио (порт. Antonio Damasio, род. 1944) – американский нейробиолог португальского происхождения. Основная область исследований – нейронные системы, лежащие в основе эмоций, принятия решений, памяти, языка и сознания. (Примеч. ред.)
8
Эйген Блейлер (нем. Eugen Bleuler, 1857–1939) – швейцарский психиатр, наиболее известный введением термина «шизофрения» и понятия «аутизм». (Примеч. ред.)
9
Георг Кантор (нем. Georg Cantor, 1845–1918) – немецкий математик, создатель теории множеств. Основатель и первый президент Германского математического общества. В конце жизни страдал душевной болезнью, умер в психиатрической лечебнице города Галле. (Примеч. ред.)
10
Фридрих Ницше (нем. Friedrich Nietzsche, 1844–1900) – немецкий философ, композитор, филолог, чьи работы оказали огромное влияние на философию и искусство XX и XXI веков. В 1889 г. в Турине увидел на улице, как извозчик избивает лошадь, и сошел с ума. (Примеч. ред.)
11
Людвиг Витгенштейн (Ludwig Wittgenstein,1889–1951) – один из культовых философов XX века, ученик Бертрана Рассела. Сын одного из богатейших предпринимателей Европы, страдал от деспотичного характера отца. Отказался от наследства и исповедовал нестяжательство, работал учителем начальных классов в сельской школе, садовником в монастыре. С 1939 по 1947 г. – профессор в Кембридже. (Примеч. ред.)