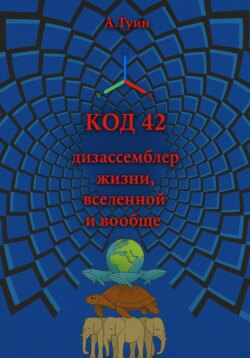Читать книгу Код 42 - - Страница 5
Мемокод
ОглавлениеМемокод – элементарный исполняемый модуль программы поведения особи.
Более того, помимо всех этих «высокоуровневых» индивидуальных поведенческих программ, мемокод включает в себя еще и огромный глубинный массив «кода коллективного доступа» – некие аналоги раровских архивов, DLL-файлов, библиотек и пр.
Кстати говоря, все файлы на компьютерах не свалены в одну кучу, а записаны на разных дисках и в разных каталогах. А предназначение папок рабочего стола состоит всего лишь в том, чтобы упростить нам быстрый доступ к некой однотипной информации. Что, правда, никак не может удержать некоторых пользователей от создания бардака на рабочем столе…
– «Новые папки» в «новой папке»?
Вот-вот. Неплохой мем! Если бы наши поведенческие программы кучковались подобным образом, мы бы вовек не построили Цивилизацию.
Собственно, в этом и состоит главное отличие человека от животных – в том, что он «написал» для себя большое множество самого разнообразного мемокода. А, поскольку некоторая часть из этих поведенческих программ (предназначенных для повышения своего индивидуального ранга) имела сходное представления о выборе целей(Z) и соответствующей им мотивации(X) в выполнении для этого определенных действий(Y), то мемокод похожего типа естественным образом собирался в общий программный пакет. Обозначим его как:
Мемофрейм – структурированный пакет мемокода, имеющий свой собственный язык описания Мысли, правила Игры и шкалу иерархии Ранга.
Пояснение термина: «фрейм – структура, содержащая некоторую информацию»
При этом весь набор основных мемофреймов (из областей языка, культуры, научно-технических знаний и пр.) формирует уже некое подобие операционной системы – рабочей среды для запуска старого и нового мемокода. Но для нормального выполнения любого кода требуется его совместимость с остальным программным окружением. А потому, как каждого отдельного мемофрейма, так и их полного набора в целом, должна выполняться некая их языковая совместимость:
«Язык – сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание)» (Википедия)
Ведь весь этот созданный человечеством громадный массив поведенческого кода, все эти данные культурно-мировоззренческого и научно-технического наследия предыдущих поколений важно сохранить на «жестком диске» нашего коллективного бессознательного, плюс, передать их дальше – а для передачи необходимы СЛОВА!
«С Богом я говорю по-испански, с женщинами – по-итальянски, с мужчинами – по-французски, а с моими лошадьми – по-немецки.» [Карл V Габсбург]
«– Ман ман, ман-ман, – сказал старик с обезоруживающей простотой. – Ман ман ман-ман? Ман ман-ман-ман. Ман ман ман; ман ман. Ман, ман ман ман-ман ман ман. Ман-ман? Ман ман ман ман!»
[Роберт Шекли, Потолкуем малость?]
Звучит, конечно, странно, но оказывается что язык, губы, связки, гортань остальных приматов устроены сложнее, чем у Homo Sapiens. А наш голосовой аппарат по какой-то причине оказался недоразвит, что и позволило человеку легко изобретать новые слова. И все же, обучение языку – сложнейшая задача! Словарный запас английского перевода «Библии» времен Шекспира – всего пять тысяч слов. Думаете, зачем его современники зубрили наизусть молитвы? Слова новые учили и запоминали! Хотя, естественно, все-все слова своего родного языка знать вовсе не обязательно. Плюс ко всему они часто еще и имеют множество других, иногда уже забытых смыслов.
Напр., как слово «купировать», которое означает не только подрезать собаке уши и хвост, но и медицинский термин, и подвергать некий текст цензуре (наилучшего взаимопонимания у женщин с ограниченным словарным запасом достигают мужские предложения с купюрами)
Естественно, что вместе с меняющимся миром, меняется и наш языковый лингвокод, включающий в себя множество взаимосвязанных понятий, предназначающихся для описания реального и воображаемого мира.
Так, к примеру, частота употребления местоимений «мы, нам, нас» с 1960 по 2008 упала не 10%, а «я, мне, меня», наоборот, выросла на 42%. А вот повседневное использование таких слов, как «терпение, сострадание, честность» снизилось на 74%. Ну и как тут не вспомнить про «склеившего в клубе модель мальчика», где каждое слово поменяло свой смысл всего лишь за пару-тройку десятилетий!
Слова – это всего лишь меняющиеся «данные», которые обрабатываются «формулами» языка – структурой его организации, хранящейся в едином громадном мемофрейме коллективного доступа.
Наш язык – вовсе не простой набор элементов, а целая среда для обработки мемокода, мощнейшим образом влияющая на процесс его исполнения.
Думаете, почему это немцы все такие законопослушные и дисциплинированные? Да все из-за железных правил немецкого:
«Если уж немецкий писатель нырнет во фразу, так вы не увидите его до тех пор, пока он не вынырнет на другой стороне своего Атлантического океана с глаголом во рту» [Марк Твен]
И, чем сложнее и глубже язык, тем мощнее работа выполняющегося с помощью его мемокода. И… тем сложнее международное взаимопонимание. Например, русский корень «слав» – суть наша боевая «слава».
Но, в западноевропейских языках на «slave» каким-то макаром приклеилось значение «раб». Вот отчего, опираясь на систему конструктов своего низкоуровневого языкового кода и подчиняясь данному ложному сигналу, Запад всегда будет лезть к славянам «за рабами», и также постоянно отгребать за это. И не понимать «загадочную русскую душу»
«Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю по-русски»