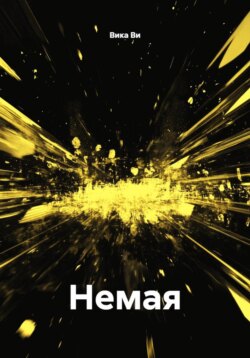Читать книгу Немая - - Страница 1
Глава 1 Немая сцена
ОглавлениеВоздух в темном зале, пропитанный ароматами дорогих духов и предвкушением, казалось, вибрировал от сдержанного гула. Мест не было – каждый стул, каждое кресло занимала фигура в шикарном, сверкающем наряде, подобающем столь торжественному вечеру. Это был не просто детский конкурс. Это был «Звёздный мост» – отборочный тур, открывающий двери в мир настоящих телешоу, и каждый родитель в зале видел в сияющей сцене трамплин для будущего своего ребёнка.
Вот у прохода сидит солидный мужчина в идеально сидящем пиджаке. Его лицо искажено гримасой раздражения, и он яростно теребит стебли длинных алых роз, завернутых в колючую, блестящую фольгу. Розы для дочери-победительницы, которые теперь кажутся ему глупой и дорогой обузой, ведь её номер уже позади, и она спела лишь «хорошо». А он платил педагогу за «блестяще». Вот по другую сторону ряда женщина в ослепительном платье с пайетками пытается усадить на место непослушного ребёнка. Малыш, краснея, всё пытается сдернуть с шеи душащий его галстук-бабочку. Он хочет домой, к игрушкам, а не слушать эту бесконечную музыку. Женщина шикает на него, бросая взгляды по сторонам – что подумают люди?
И вот на сцену, в ослепительный круг света софитов, выходит она. Маленькая девочка с микрофоном в руках. Её улыбка светится искренностью, подчеркнутая ямочками на щеках и россыпью веснушек на носу. В своем голубом, воздушном платье, с бантом, почти равным ей по размеру, она выглядела точь-в-точь как куколка из витрины дорогого магазина, как настоящая принцесса из сказки, которую вот-вот озвучат.
И в этот миг происходит чудо: огромный зал затихает, заворожённый. Сотни взглядов впиваются в хрупкую фигурку. Даже раздраженный мужчина с розами на секунду замер, а ребёнок в галстуке перестал ерзать, уставившись на сияющую сцену. Дирижёр, поймав кивок строгой женщины-режиссёра у кулис, взмахивает палочкой – и всё пространство наполняется первыми, трепетными нотами знакомой всем классической баллады. Музыка лилась, обволакивая зал сладким ожиданием. Девочка подносит микрофон к губам, делает вдох, грудная клетка поднимается под кружевами платья…
Но ничего не происходит.
Тишина. Сначала недоуменная, вопросительная. Потом – тягучая, звенящая, налитая свинцом. Её рот приоткрыт, губы дрожат, но из них не доносится ни звука. Только тихий, предательский выдох в микрофон. Испуг, холодный и липкий, поднялся от самого живота, сжал горло стальным обручем, выжег в мозгу чистый, белый лист. Она забыла. Забыла не слова – текст отпечатался на сетчатке глаз. Она забыла, как дышать. Как извлекать звук. Как быть собой.
И этот испуг, видимый, почти осязаемый, будто щелчком запускает цепную реакцию в зале. Сначала робкий, недоуменный шепот на первом ряду: «Что случилось?». Поток удивления пополз дальше. Потом – первый, резкий, отрывистый смешок где-то сбоку. Ему вторит другой. Кто-то громко, с преувеличенной досадой вздыхает. Кто-то свистит – коротко, по-хулигански. Чей-то громкий, нарочито «шёпот» режет тишину: «Да сколько можно ждать! Других детей много!»
И вот уже все эти звуки – шёпоты, смешки, вздохи, ворчание – сливаются в один оглушительный, зловещий гул. Гул, который на гребне волны обрушивается на сцену и превращается в единый, пронизывающий, беспощадный смех. Он катится рядами, нарастая, как лавина. Он не веселый, он – уничижающий. Он обрушивается на девочку физической волной, бьет в уши, проникает под кожу, заставляет сжиматься сердце крохотным, ледяным комком. А она так и стоит в самом центре этого ослепительного, предательского света – прекрасная, нарядная, немая куколка, в которую вселился не голос, а один лишь ужас.
Слёзы, горячие и нестерпимые, наконец прорывают плотину, катятся по веснушкам, оставляя блестящие дорожки на щеках. Но их никто не видит в сиянии софитов. Видят только немую панику и смеются ещё громче. Режиссёр у кулис, скривившись, делает резкий взмах рукой. Музыка обрывается на высокой ноте. Занавес, медленно и беспристрастно, начинает сходиться, отрезая её от зала, но не спасая от гула, который ещё долго бьется о бархатную ткань, добираясь до нее уже здесь, в полумраке кулис, где её ждёт только холодная стена и тихие всхлипы мамы, которая не знает, как помочь.
––
Открыв сильно заплаканные, опухшие глаза, Маша с секунду не могла понять, где находится. Сознание возвращалось медленно, как сквозь густой, ватный туман, пропитанный стыдом. Рваные лучи утреннего солнца, жестокие и беспощадные, пробивались сквозь щели в стенах, освещая миллиарды пылинок, кружащих в безумном танце. Они резали глаза. Она была не в своей розовой комнате с постером принцессы-певицы на стене. Там бы её уже нашли. Там бы пришлось отвечать на вопросы, видеть жалость в глазах отца и растерянную боль в глазах матери.
Вчерашний вечер вспомнился ей не картинками, а ощущениями: горячие слезы, солящие губы; душившее горло отчаяние, похожее на удушье; бегство из дома через черный ход, когда все уснули, на цыпочках, в одном платье, по-прежнему пахнущем сценой и страхом. Побег в её тайное убежище, единственное место, где мир переставал давить, сужаясь до размеров знакомых, тёплых теней. Старый чердак над сараем на краю их садового участка.
Это место было её святыней, ее параллельной вселенной. Ещё в шесть лет, когда голос её был чист и не испорчен, она уговорила папу отдать ей в полное распоряжение этот закуток, пахнущий старым деревом, сеном, пылью веков и детскими тайнами. Малышкой она днями и ночами проводила здесь всё свободное время, обустраивая свой уголок: притащила старый, выброшенный матрас, покрыла его лоскутным одеялом, соорудила полки из ящиков для своих сокровищ – стекляшек, перьев, красивых пуговиц. На стену приклеила звёзды, светящиеся в темноте. Но главное – здесь её никто не слышал. Никто не мог осудить, оценить, посмеяться или похвалить невпопад. Стены, обитые войлоком, поглощали любой звук.
у ..Маша с самого раннего детства не просто хотела стать певицей. Она знала, что это её судьба, такая же неотвратимая и ясная, как смена времён года. Она будет ею. Девочка усердно училась в музыкальной школе, и преподаватели, строгие и скупые на похвалы, прочили ей великое будущее, ахая над её чистым, звонким сопрано, похожим на хрустальный колокольчик. «Слух абсолютный, тембр – ангельский», – говорили они, и Маша ловила каждое слово, лелея его в душе как доказательство своей избранности.
Всё рухнуло в год, когда ей исполнилось десять. В их школе проводился отбор в престижный хор, который должен был гастролировать по разным городам, покоряя зрителей и критиков. Маша готовилась, как одержимая. Она пела везде – по дороге в школу, за завтраком, перед сном, представляя, как стоит на большой сцене, а зал замирает. Но судьба, жестокая и насмешливая, подстроила ей подлость: прямо перед просмотром девочка заболела. Ангина. Горло горело огнем, глотать было мучительно. Не желая сдаваться, не допуская и мысли о провале, она вышла на прослушивание с лихорадочным блеском в глазах, стиснув зубы от боли, заглушив её таблетками. И заплатила страшную, непоправимую цену – на высокой, сложной ноте голос сорвался с хрипом и больше не вернулся. Она сорвала голосовые связки.
Мир, такой яркий и звонкий, окрасился в серый, тягучий и беззвучный. Её голос, некогда высокий и летящий, стал грубым, низким, прорезанным хрипотцой. О каком хоре могла идти речь? «Ты же не контральто, милая, у нас таких партий нет», – сказал дирижер, разводя руками. Полностью разочаровавшись в себе, Маша прошла через череду врачей, но те лишь разводили руками, выдавая неутешительные диагнозы: голос сломан, он останется низким, с характерной, неизбежной хрипотцой. «Смиритесь. Может, на инструменте научится играть?» Её мечты, все ее усилия, ее саму – раздавлены в одночасье.
Теперь ей ничего не оставалось. Она жутко, до боли в животе, стеснялась своего голоса, ставшего чужим, уродливым, как она думала. Её хрупкая, почти фарфоровая внешность – русые волосы, голубые, слишком большие глаза, рассыпанные по носу веснушки – смотрелась нелепым, жестоким диссонансом с этим низким, почти мужским, надтреснутым тембром. В то время как другие девочки ее возраста на школьных концертах легко и звонко
брали высокие, чистые ноты, её собственный голос казался ей монстром, спрятанным внутри.
И единственным утешением, единственной отдушиной оставалось это место. Старый чердак, где в лучах заходящего солнца, окрашивающих пыль в золото, под аккомпанемент шуршащих в углах мышей и гула далёкого мира, она могла петь. Петь своим новым, надтреснутым, неидеальным, но таким живым и её голосом. Петь только для себя, для теней, для пыльных стропил. И для воспринимающей тишины, которая слушала её не осуждая, а просто принимая. Здесь, в укрытии, её сломанный голос обретал странную, щемящую красоту. Но это была тайна. Как и её слёзы, которые она вытирала сейчас рукавом платья, сидя на старом матрасе и глядя на луч солнца, в котором кружились те самые, вечные пылинки. Мир снаружи казался теперь ещё более враждебным. Но здесь, внутри, среди своих ран и тишины, она всё ещё могла дышать.