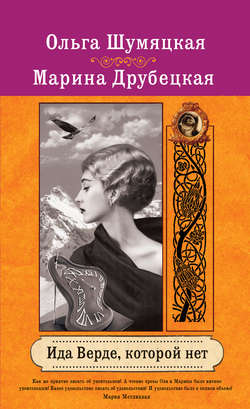Читать книгу Ида Верде, которой нет - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Злой ангел
Глава пятая
Игры со временем
ОглавлениеПальмин предложил Руничу взять комнатку на его дачке, чтобы не мотаться каждый день из московского центра в Сокольники. «Чарльстон на циферблате» – или «Сюрреалистический гэг с часами и рыбками гуппи», как уточнял Пальмин в беседах со случайными гостями, – придумывался на дачке.
Оказалось, что на ней сносно функционирует камин. Его разжигали с утра, и умиротворяющее тепло окутывало большую гостиную: рояль, превращенный в обеденный стол, лабиринты из книжных стопок на полу и «объекты», которые безостановочно мастерил Пальмин. Из последнего – кофейная чашка из папье-маше диаметром около трех метров со стенками полутораметровой высоты, внутри тщательно выложенная непромокаемым брезентом. «Потому что будет большой кофейный заплыв», – веселился Пальмин. Гигантский объект «бытового сюрреализма» он установил в центре гостиной и поджидал «подготовленных для кофейного океана пловцов».
Однако Рунич предпочитал дистанцию и продолжал путешествовать из Москвы в Сокольники. Работа его над фильмовым сценарием свелась… К чему же она свелась? Примерно к следующему: Пальмин, сидя перед барабаном, на который натягивал лист бумаги – «Это, знаете ли, звукотекст», – цитировал какую-нибудь из строчек Рунича, записывал ее полукругом вдоль барабанного остова и вопросительно смотрел на поэта.
– «И стрелками ее ресниц ты отмечал часы дневные…» Я точно цитирую? Ресницы – стрелки. Зрачки – циферблат. Тут потребуется двойная или даже тройная экспозиция.
По большей части все это казалось Руничу глупым. Что значит превратить ресницы в стрелки часов? Это можно сделать в воображении. При наличии воображения. К чему материализация? Кто видит – тот видит.
– Вам не кажется, Дмитрий Дмитрич, что в ваших киноэкспериментах наличествует противоречие? Вы хотите обслуживать людей с отсутствующим воображением. Но уместна ли тут благотворительность? – спрашивал он Пальмина.
– Я и не предполагал, Рунич, что вы задавака, сноб в таком приземленном смысле, – отвечал Пальмин. – Вам что, жалко для людей своей фантазии?
Крыть было нечем.
– Вы говорите, люди могут прятаться между минутами, – продолжал Пальмин. – То есть минуты в вашем представлении – как деревья в лесу? Или аллеи в парке? Мне нравится эта конструкция. Если бы найти материальное воплощение минуты! Мы сделаем механический балет минут! Будут худенькие минутки, упитанные часы, толстенькие месяцы и год, страдающий ожирением, – трак-трак-трак!
Пальмин отстучал на барабане быструю дробь.
Рунич набивал тоненький бумажный цилиндр табаком, затягивался и думал о том, что этот Дмитрий Дмитрич, мальчишка, похожий на циркача, заставляет его вернуться к вере в живучую парадоксальность жизни. Жонглер Вселенной!
Вот и сейчас, не покидая сферы абстрактных идей, Пальмин ловко чистил картошку, рубил скользкие голышки на кубики, бросал в шипящее масло. Тут же кидался к фотоаппарату, тащил к плите треногу – и начинал снимать масляные всплески на сковороде. При этом успевая вовремя переворачивать свою картофельную геометрию.
Уже шла осень, а Лозинский все не возвращался из автопробега. Соавторы обменивались длинными телеграммами, чем смешили барышень-телефонисток по обе стороны траектории движения сюжета. Пальмин ходил в почтовое отделение, которое располагалось в чахлом домике на пересечении парковых аллей, и там ему застенчиво улыбалась белокурая мадамочка, делавшая смешные ошибки в текстах.
А Лозинский в каждом населенном пункте, куда прибывали автомобили, справлялся о конторе государственного почтамта, получал из окошка ворох желтоватых листков с наклеенными словечками, присаживался на деревянную лавку с кожаными подушками – и погружался в изучение.
В почтовой комнате, как правило, было тихо, как в библиотеке, и не жарко. В наклоненном солнечном луче, пробивающемся сквозь плотную занавеску, плавали пылинки. В углу стоял фикус, и после особенно выморочного переезда, когда все в голове мешалось и мутило, казалось, что в остролистное растение заколдован старик, ждавший тут письма из столицы пятьдесят лет безрезультатно.
Иногда Лекс думал, что пальминские затеи, с фантастической легкостью преодолевающие тысячи километров, на самом деле суть продолжение дурных сновидений, которые одолевали из-за местной жары. «Циферблат вытекает и течет по улице. Как тебе? Какой материал? Глина?» – было написано в последней телеграмме. «Или воск?» – кратко ответил Лозинский.
Впрочем, депеши эти Лозинского по большей мере озадачивали. Безумно или гениально их содержание? К чему следует готовиться по приезде в Москву? К тому, что циферблат действительно потечет по мостовой и случайный прохожий, желая узнать, который час, вынужден будет бежать вслед за ним по тротуару? Можно представить себе публику такого киносеанса: сюрреалисты, дадаисты – надменные клопы от живописи и литературы.
Лозинский разозлился.
Интеллектуалов радикального толка он побаивался, не понимая, как они вертят смыслами. Не окажется ли, что он, пытаясь подладиться под этих жонглеров словами и картинками, запутается и будет осмеян, как дурной актер на сцене?
Однако интуиция говорила и другое: а может – раз! – и вспыхнет слава. Мгновенной молнией! И тогда можно будет диктовать свои условия, а не барахтаться в азиатском песке, как сейчас. Развернуть бы детективную серию с экранными эффектами, но… Но понятными мамашам, отцам семейств и деткам-гимназистам. Полицейские заняты ловлей революционэрки, а на самом деле богатый купец подкупил их, чтобы найти понравившуюся ему фифу. Надо бы записать.
Идея с вытекающим циферблатом очень понравилась Руничу. Вот это годно для фильмирования, вот это на экране будет выглядеть лучше, чем на словах! И общение с Пальминым продолжало его развлекать.
Часто их встречи проходили на перекладных – в пути. Создавалось впечатление, что вся Москва заросла, как сорняками, родственниками Пальмина, у которых то и дело что-то случалось, и Пальмина призывали «решать вопросы». Только Рунич приезжает в кофейное заведение, где назначен новый этап обсуждения сценария, как оказывается, что в доме на углу живет пальминская двоюродная тетка. Только открываются три свободных часа – треп, фантазии, «волшебное чувство обновы», как резюмировал Пальмин каждое новое решение, – как их вычисляет милая старушка и отправляет на другой конец Москвы с самоваром для больного внука.
Отказать Пальмин не мог, и сценарные бдения переносились в трамваи, таксомоторы, автобусы, первые линии которых недавно появились в Москве.
– Странное дело, милый Юрий Константинович, мои родственники – это особое племя, удивительно деловитый народец, в сущности, нация гномов. Их бы приставить к аппарату, который вырабатывает электрическую энергию! Москва осветилась бы нескончаемым фейерверком!
А однажды сентябрьским днем на даче – моросящий дождь разглаживал желтые кленовые листья, похожие на ворох брошенных салфеток, – Дмитрий Дмитрич увлек Рунича в сад и привел к полудохлой избушке.
– Гараж, извольте наблюдать. Сейчас мы попросим его открыть нам свои чертоги, – заявил Пальмин, вытащил из кармана связку ключей, присмотрелся к ним, отыскал самый витиеватый, вскрыл замок и исчез в темноте.
Через минуту оттуда донесся его голос.
– История такова: несколько лет назад у меня купили три картины. Американский коллекционер. Щедр и разбирается в сюрреалистических видениях. А тогда как раз случилась темная история с кинопромышленником Ожогиным. То ли убийство, то ли самоубийство. Так или иначе, он решил избавиться от своего «Бьюика» василькового цвета. Рекомендую…
Абсолютная мистика в духе Пальмина: из бревенчатого гаража показалось невиданного цвета существо на колесах. Оно никак не могло выбраться целиком – вот появился на свет божий мерцающий капот, переднее стекло, а автомобиль все тянется, будто растягивается невиданных размеров тянучка. Сиденья из белой кожи, руль…
Среди плевеньких березок и аляповато раскрашенных кленов синяя громадина казалась порождением пальминской фантазии, а не реально существующим механизмом. Рунич подумал даже: может, там, в гараже, есть дверка папы Карло в невиданную страну, откуда, прорвав нарисованный очаг, и выехало авто. Вот удивил Дмитрий Дмитрич!
– Была серьезная поломка в моторе, но теперь мы, милый Юрий Константинович, отдадимся вечному движению. Вы не могли себе представить, что я умею править авто? Да-с! Не отказал себе в удовольствии – изучил приемы, – они уже мчались по аллее, и Рунич сидел справа от Пальмина, натянувшего эффектные очки, а его шею лихо обвивал белый шарф. Теперь мы с вами, Юрий Константинович, и есть кинопленка! Мы мчимся, как она, и, как она, мерцаем тайными смыслами! – восклицал Пальмин, и они колесили по страждущим родственникам – аптеки, няни, детские коляски, абажуры, велосипеды, аккордеоны.
Находясь в движении, Пальмин не терял сосредоточенности и постоянно выдвигал новые фильмовые идеи.
Попутно они покупали материалы для съемок – глину, воск, цветные бутыли с загадочными жидкостями.
Иногда машина заполнялась людьми, которые на разные голоса кричали, обижались, прощали Пальмина, то шепотом, то с воплями цитировали стихи Рунича, оставляли в салоне автомобиля записки и рисунки, потом случайный, казалось бы, прохожий забирал их с заднего сиденья, когда машина на мгновение притормаживала на повороте.
Васильковый «Бьюик» – Пальмин звал авто «Синяя борода» – стал передвижной конторой.
Попутно начались съемки на даче. На спортсмэнской площадке неподалеку от дома построили декорации Спасской башни с несоразмерно большим часовым циферблатом. Под тентом выстроили фрагмент улицы, по мостовой которой должен был течь циферблат.
С удивлением Рунич понял – наконец-то! – что киноэкспериментаторы воспринимают его строчки как живое естество. Они проникли в его словесный зверинец и, что удивительно, подобрались к словесному зверью ближе, чем он сам. Странное чувство, полностью подкупившее его.
Несколько дней Рунич валялся с простудой: слушал новые пластинки, листал томик Гомера, пил крепкий кофе, пробовал новые перья и чернила. Казалось, вот-вот ляжет строчка – гибкая, потакающая – на простыню листа. Но снова обманулся. Однако в Сокольники таскаться расхотелось. Все-таки там – немножко цирк, немножко шуточно. Съездил в оперу. И там авангардная постановка: скрипки улетали из рук оркестрантов, дирижер левитировал над сценой и ловил беглянок смычком. Мило, но разболелась голова.
На следующий день пришла телеграмма – обожает же Пальмин эти наклеенные в линеечку буковки! – «Очень ждем. Важно. Камера включена. Лозинский вернулся».
На съемочную площадку нагнали полно народу.
Зрелище напомнило Руничу мольеровскую пьесу в постановке Вахтангова: съемочный люд сам по себе являл персонажей с неожиданными аксессуарами в руках – кто с шумовкой, кто с плетеной ракеткой, кто с чайником.
Лозинский смотрел на площадку с другого угла. Приехав, он понял, что Митя, конечно, уже верховодит. По-прежнему на любое замечание Лекса он кричит: «Гениально, дружище! Только ты!» – но чтобы внедриться в ворох его листков, испещренных рисунками и планами, нужен специально обученный проводник.
Вернувшись из Азии, Лозинский стал несколько иначе – значительно заботливее – относиться к себе, своему телу и пространству вокруг себя. Отмывался чуть ли не неделю. Хотел, чтобы каждый ноготок и волосок забыл о поте и грязи.
Неподалеку от его дома открылся новомодный салон с комическим названием «Брега Леты», рекламное панно в окне которого обещало «восстановление всех клеток усталых организмов». Лозинский спустил в салоне добрую треть азиатского гонорара. О, как полюбил он возлежать на массажном столе, укрытый пушистым белоснежным полотенцем.
Открыл для себя маникюр и теперь, барабаня по столу в ожидании кофе, любовался умащенными кремом длинными пальцами и ногтями, слегка поблескивающими матовым лаком. Педикюр стал для него приятным откровением – показалось, что ему сказочным образом вернули детские пяточки, в точности те, которыми он прыгал на маменькиных коленях. Лекс чуть не прослезился.
Он накупил новых рубашек, цветных шейных платков, шляп. Так напугала его экспедиционная грязь! И, решив носить тонкие замшевые перчатки, купил две пары – кофейного и абрикосового цвета. Ведь это шик! Кинорежиссер должен быть шикарным: он – начало своих фильмов!
Но все идейки полетели коту под хвост, как только наступил первый день съемок.
Лозинский был крайне раздражен. Разве это настоящая съемочная группа – о господи, конечно, нет! Он как чувствовал, что сюрреалисты устроят паноптикум! Мало того что разукрасили себя макияжем, нарядили какого-то недоумка в костюм кинокамеры, и тот бродил, задевая декорации картонным объективом, в который не поленились вставить круглую стекляшку, так еще помощник по свету недвусмысленно ухлестывал за художницей, восклицал, что он «живое кресло», тянул ее к себе на колени и щекотал. Та заливисто хохотала и одновременно скандалила с рабочими сцены, в которые записались соседские студенты.
Оператор – высокого роста брюнет с пиратскими усами – оперным басом заявил, что ему надо «послеживать за канарейкой». Под канарейкой подразумевалась утка, что запекалась в духовке.
«Чтобы толком отпраздновать первый день съемок, господа!» – трубил оператор.
Циферблат вываливался на дощатый тротуар, но совсем не так, как ожидалось. Квашней! Никакого загадочного течения Времени не наблюдалось.
– Однако получается, что Время вываливается как слоновьи какашки, господа, – пробасил оператор. – Это, конечно, тоже метафизика, но… Глину используете? Видимо, не тот материалец.
– Надо бы ее разбавить, – задумчиво откликался Пальмин, хватался за садовый шланг, добавлял в бадью с глиной воды.
Лозинский готов был рвать и метать. Однако спорить с Димой ему не хотелось: спорить – значит включиться в спектакль. На амплуа посмешища.
«А может быть, самое время ретироваться?» – спросил себя Лозинский.
Мыслями он все время возвращался к многообещающему разговору, который имел вчера с продюсером Студенкиным в холеной конторе последнего.
Детективная серия. Про археологические раскопки. Требовалась модель сценария, но разве это проблема – все газеты кишат новостями о египетских мумиях. Пригласить журналистишку – пусть накопает истории, посидит в библиотеке, потом нанять беллетриста. А Студенкину для пущего соблазна показать съемки на раскопах профессора Ведерникова – там были очень неплохие кадры.
Боже, ну что они творят!
Лекс направился к другу, брезгливо огибая съемочных весельчаков.
– Митя… – собственно, больше ему сказать было нечего. Пальмин и без того был расстроен, кусал губы, дулся на себя и на упрямую глину, которая продолжала вышлепываться из циферблата, будто за нарисованными часами пряталась бойкая корова, переевшая маргариток. – Мы же договаривались, что это будет воск, а не глина. Топи воск, Митя. В него нужно добавить… я писал тебе в телеграмме состав.
– Ты уверен?! Не помню! Украли? Не доставили? – Пальмин ринулся к своему портфелю, набитому ленточками телеграмм. – Подожди-ка… А-ха-ха, дедушка, как говорит мой племянничек, а-ха-ха – вот она! Василь Палыч! – крикнул он сонному бородатому толстяку, который сидел в кресле в обнимку с большим толстым котярой. – Василь Палыч, нам бы воск растопить!
– Сделаем, – степенно ответил толстяк, погрозил коту пальцем и, как ни странно, принялся за работу.
Лозинский решил тихо покинуть эти рухнувшие оземь сады Семирамиды.
В кудахтающей толпе он нашел Рунича. Помахал ему рукой в лимонного цвета перчатке.
Тот кивнул в ответ.
Странное дело – столп русской словесности не проявлял признаков беспокойства. Стоял себе мирно, рассматривая рычажки камеры. Благосклонно слушал очередную оперную арию оператора.
Лозинский нерешительно топтался в конце выстроенной декораторами улицы и соображал, где можно поймать таксомотор.
«Уйти и не оглядываться!» – сказал он себе.
А то можно напороться на взгляд Пальмина. Исподлобья. Осуждающий.
Но тут раздался возглас самого Пальмина:
– Лекс! Осторожно! Стой!
Лозинский резко обернулся. Восковой циферблат тек по дорожке к его ногам. Поток постепенно сужался, превращаясь в струйку, и вот тоненький ручеек подкатился к носкам лощеных ботинок.
Лозинский отступил на шаг, боясь запачкаться, а Пальмин уже мчался к нему.
– Ты гений, Лекс! Просто гений! Ну, конечно, именно так! Человек стоит в конце улицы и ждет, когда к нему притечет циферблат. Человек, который ждет свое Время, чтобы действовать! Человек, который на самом деле выше Времени! Оно подкатывается к его ногам и останавливается. Все обрело смысл, Лекс! Благодаря тебе! Ты видишь эпизоды сверху, а я, как червяк, изнутри! – Пальмин обнимал друга так, будто тот спас из бурных океанских вод кого-нибудь из его пытливых родственников.
Лозинскому стало неловко. Он прекрасно понимал, что ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы что-то обрело смысл. Этот несчастный воск сам притек к нему. Случайность – ничего больше. А сам он – не генератор идей, а лишь невольный участник случайных совпадений. Только такой идиот, как Пальмин, может все поставить с ног на голову.
Однако… Однако Пальмин считает его гением. Гений… Слово похоже на теплый морской бриз. А если Пальмин прав?