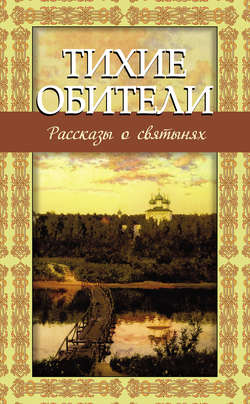Читать книгу Тихие обители. Рассказы о святынях - Группа авторов - Страница 10
В.П. Быков. Оптина пустынь
Старцы
ОглавлениеСамым первым старцем – основателем Оптинского старчества, – был отец Леонид, ближайший сотрудник вышеописанного Моисея. И сейчас еще есть люди, которые помнят величественную фигуру этого старца, названного в схиме Львом. Почти постоянно в белой одежде, прикрытой сверху полумантией, с белыми волнистыми волосами, он производил, говорят, неотразимое впечатление.
Когда он поступил в Оптину пустынь, он сразу положил на нее какой-то исключительный, своеобразный отпечаток.
Чрезвычайно простой, искренний, непосредственный человек, крайне чуткий и экспансивный, он сумел соединить в себе в одно и то же время необычайную любовь к страждущему человечеству, ради которого он готов был пойти на крест, в самом точном смысле этого слова, и за которое он часто, будучи свидетелем проходивших перед его глазами неприкрытых покрывалом житейской лжи бед, скорбей и страданий, проливал обильные слезы, приносил Господу горячие молитвы, и в то же время в деле исповедания Христа был молниеносен, горяч до крайности.
Обительские насельники, как только прибыл к ним старец Леонид, всей душою поняли этого великого человека и сплотились вокруг него одной семьей.
Чудную картину, говорят очевидцы, представляла в то время эта форма единения старца с доверявшими ему свою душу обительскими иноками. Все иноки стоят в его келье во время беседы на коленях вокруг него, а он, как добрый пастырь среди своих учеников, выслушивает их откровенную исповедь, умудряет их своим жизненным и духовным опытом.
М. Нестеров. «Святая Русь»
Как всякий истинный светильник не может скрываться под спудом, старец Леонид тотчас же раскинул лучи носимого им света по очень большому радиусу. Благотворное влияние его на иноков сделалось известным всем окружным обителям, и к нему то и дело стали приходить иноки из других монастырей, искавшие духовной поддержки, руководства и совета. Вслед за этим известность о великом старце распространилась и среди мирян; и из городов и соседних селений стали появляться люди всякого звания. Слова и советы старца поражали приходящих своей прозорливостью, своей неземной мудростью; молитвы его приносили желанные результаты, и двери старца не закрывались уже ни перед кем.
Преподобный Лев Оптинский (Леонид Наголкин)
Таким образом, старцем Леонидом было положено начало старчества среди мирян.
Человеческая нужда влекла всех к прославившемуся своим внимательным отношением к человеческой скорби старцу Леониду.
Старец Леонид был человек редкой неподкупности, и, если действительно в уставную особенность Оптиной пустыни по преданию было заложено нелицеприятие, то старец Леонид был одним из наиболее ярких выразителей его.
Были очень часто такие примеры, где старец, провидя в только что вошедшем какой-нибудь тяжелый порок, какой-нибудь великий грех, несмотря на внешнее положение носившего этот порок или грех, обличал его очень сурово.
Были случаи, что он выгонял таких, которые приходили к нему с видимым лицемерием.
Рассказывают такой случай. Недалеко от Оптиной пустыни жил помещик, который хвалился; что стоит ему только взглянуть на о. Леонида, как он сейчас же насквозь увидит его. Вот однажды этот помещик и приехал к старцу. Келья, по обыкновению, была полна народом. Входит в келью. Роста он был очень высокого и чрезвычайно полный. Отец Леонид имел такой обычай: когда хотел произвести на кого-нибудь особенное впечатление, то, загородив глаза рукою, при-ставя ее ко лбу козырьком, как будто рассматривал какой-нибудь предмет на солнце. Так он сделал и при входе этого помещика. Поднял руку к глазам, смотрит и говорит: «Эка остолопина идет! Пришел насквозь увидать грешного Леонида, а сам, шельма, семнадцать лет не был на исповеди и у Святого Причастия». Помещика эти слова так поразили, что он весь затрясся, а после плакал и каялся, что он действительно неверующий грешник; что он действительно семнадцать лет не исповедывался и не причащался Христовых Таин.
Был другой случай: один очень богатый помещик, много благодетельствовавший обители, до глубокой старости жил в незаконной связи со своей крепостной, хотя имел законную жену и взрослых женатых уже сыновей и дочерей. Зная зависимость, до некоторой степени, от него обители, он обратился с просьбой к архимандриту Моисею, чтобы тот попросил у о. Леонида разрешения исповедоваться ему у него.
Таинство исповеди. Икона. Конец XIX в.
Каково же было удивление помещика, когда старец отказал ему в этом. Тогда помещик снова начал усиленно просить архимандрита и других близких к старцу людей. Эти просьбы склонили старца; он согласился, но заявить, что за последствия не ручается. Помещик исповедовался, но старец не допустил его к Святому Причастию. Нетрудно себе представить, что должен был испытывать этот господин, который, как оказывается, был необычайно властным человеком и не понимал по отношению к себе ни противодействия, ни препятствия.
И при всем этом неловкость его положения усугублялась еще тем, что он приехал к старцу со старшей замужней дочерью, которая в то время за эту открытую правду была чрезвычайно благодарна старцу.
Напрасно помещик обращался к настоятелю и к другим лицам о заступничестве – все, зная непреклонность старца, отказали ему в этом. Помещик уехал домой и менее чем через месяц порвал незаконную связь.
Что касается громадного духовного опыта и прозорливости старца Леонида, о них существует очень много рассказов, и как на один, наиболее характерный из них, укажу на следующий.
Однажды, в конце 20-х или 30-х годов XIX столетия, он проездом посетил Софрониеву пустынь. В то время там был известный своею прозорливостью затворник иеросхимонах Феодосий.
Про него рассказывают, что он предсказал войну 1812 года и некоторые другие события. Побеседовав с затворником, о. Леонид спросил его, как он узнает и предсказывает будущее. Затворник объяснил, что Дух Святый является ему в виде голубя и говорит человеческим языком.
В. Васнецов. «Серафимы». 1885–1896
О. Леонид, видя, что это явная бесовская прелесть, начал предостерегать затворника, говоря, что таким явлениям доверять не следует, и к ним должно относиться с особенной осторожностью. Затворник очень обиделся и сказал о. Леониду: «Я думал, что ты, как и все, пришел ко мне, чтобы поучиться и попользоваться от меня, а ты дерзаешь еще меня учить».
О. Леонид удалился от него и, уезжая, предупредил настоятеля пустыни: «Берегите вашего затворника, как бы с ним не случилось чего худого».
И действительно, не успел о. Леонид доехать до Орла, как до него дошел слух, что иеросхимонах Феодосий удавился.
В. Тропинин. «Монах со свечой». 1834
Но лишь только деятельность о. Леонида в Оптиной пустыни стала разрастаться и к нему пошел со всех сторон народ, на него, как и всегда водится, сатана воздвиг жестокое гонение. Кто-то из невежественных монахов ближайшей обители, отождествив откровение помыслов мирянами старцу с исповедью, донес о нем архиерею, и последний воспретил ему принимать мирян. И вот здесь сказалось: какая сила и глубина веры, какая независимость и неподкупность духа, твердость убеждения и именно христианское понимание великих слов апостола: «пребывайте в служении», проявились в этом человеке. Он продолжал неукоснительно принимать мирян; и народ как будто бы еще больше шел к старцу.
В один из таких приемов, протискавшись через огромную толпу народа, пришел к нему настоятель, архимандрит Моисей, и напомнил о запрещении архиерея. Леонид вместо ответа приказал принести привезенного к нему недвижимого калеку, лежащего у дверей кельи, и сказал о. Моисею.
– Посмотрите на него: он живой в аду. Но ему можно помочь; Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, чтобы я мог его обличить и наставить. Могу я его не принять?
Любвеобильный и тоже сострадательный о. Моисей дрогнул перед словами старца и робко проговорил:
– Но ведь преосвященный грозил послать вас под начало.
– Ну так что ж? Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, хоть на огонь поставьте – я буду все тот же Леонид. Я к себе никого не зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу… Не могу презреть вопиющие людские нужды.
В. Гау. Филарет, митрополит Московский. Гравюра, 1837
А когда его упрекало белое духовенство в том, что он занимается не своим делом, он смело говорил:
– Это бы ваше дело. А скажите, как вы исповедуете? Два-три слова скажете, вот и вся исповедь. Вы бы вошли в положение каждого из своих духовных детей. Разобрали бы, что у них на душе. Давали бы им полезные советы, утешали бы их в горе, и не уходили бы они от вас.
Хотели о. Леонида за сопротивление архиерею сослать в Соловки, но для человека, глубоко верующего в Господа Бога и высоко держащего знамя своего служения, для истинного христианина – злобные происки сатаны – все равно, что рычание беззубого льва, потому что Господь всегда стоит на страже около полностью доверившихся Ему. Заступничество Филарета, митрополита Московского, и Филарета, митрополита Киевского, спасло этот великий светильник: его оставили в покое.
И он потух по воле призвавшего его к Себе Творца 11-го октября 1841 года, оплакиваемый тысячами оставленных им сирот.
Известный всей читающей России духовный писатель Е. Поселянин выразил прекрасную мысль, что последовательная лествица трех Оптинских старцев: Леонида, Макария и Амвросия, – представляет собою по мере достигнутой ими духовной высоты, известности и влияния три все выше и выше поднимающиеся ступени.
Второй знаменитый Оптинский старец, иеромонах Макарий, был ближайшим учеником, другом и помощником старца Леонида и, само собой разумеется, тотчас же заместил этого последнего.
Старец Леонид установил, если так можно выразиться, первую точку соприкосновения с миром, лежащим за оградой Оптиной пустыни; первый реальным примером указал всю важность нравственно-воспитательного значения иноческой жизни – для простого народа; истинную задачу служения иночества: спасение своей души спасением душ наших ближних, непрестанным исповедыванием перед людьми Господа Нашего Иисуса Христа и Его великого учения. Он как представитель Русской Православной Церкви, твердо охранял принципы и догматы великого православия. А старец Макарий увеличил эту область общения точкой соприкосновения иночества с русской интеллигенцией.
Будучи человеком для своей эпохи образованным, происходя из хорошего дворянского рода, он читал много духовной литературы, в том числе и переведенной с греческого и славянского языков.
Преподобный Серафим Саровский
И на нем знаменательнее всего оправдался следующий факт.
Если Божественной про-мыслительной волею ниспосылается на Землю носитель великой Боговдохновенной мудрости, искусный влиять на пытливый ум искренно ищущих разрешения духовных проблем жизни, – весть об этом избраннике проникает в сердце именно тех, кто искренно алчет и жаждет правды.
Посмотрите: засветился в чаще непроходимых Тамбовских лесов великий Божий светильник – Серафим, и, несмотря на то, что не было в то время широкой сети телеграфов, а тем более телефонов, да и почта-то была так бедна, так несовершенна, что не была в состоянии, благодаря отсутствию железных дорог, своевременно обслуживать даже центры нашего беспредельного отечества, не говоря о далеких окраинах, а между тем какие нескончаемые волны паломников потекли из самых отдаленных уголков нашего отечества к этому великому подвижнику Христовой любви и смирения.
Точно то же мы видим и в великой возникшей деятельности старца Леонида в Оптиной пустыни: весть об этом посланнике неба разошлась со страшною быстротой среди наших соотечественников, чего теперь не в силах достигнуть самые великие, самые известные ученые, врачи, художники, несмотря на целый ряд многочисленных земных орудий, служащих распространению известности.
И к старцу Макарию потекли люди великого ума, великого искания, и с помощью этих людей о. Макарий создал специальную Оптинскую литературу.
Великое влияние этого старца излилось на искавшую правды, света и добра душу нашего великого писателя Н.В. Гоголя.
Около Макария приютились имена Киреевских, Леонтьева, Погодина, Соловьева, Достоевского, не говоря уже о православном русском духовенстве. И, помимо многочисленных посетителей, у о. Макария была огромная переписка с разными лицами, так что одних писем, напечатанных после его смерти, было шесть томов.
И вот, в сферу деятельности о. Макария, всесторонней деятельности: и устной, и духовно-литературной, в Оптину пустынь, под руководительство его, вступил известный почти всему образованному миру, не только в России, но и за границей, старец Амвросий.
Об этом великом человеке и праведнике нашей эпохи создалась огромная литература, замечательной особенностью которой следует назвать то, что сколько бы ни писали о старце Амвросии книг, они с жадностью читаются все.
В. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского. 1872
Старец Амвросий появился в Оптиной пустыни и приковал к себе внимание исключительно интеллигентских кругов в тот момент, когда эта интеллигенция была охвачена проникшей в нее западноевропейской философией, которая все больше покоряла сердца увлекающейся молодежи, и когда на горизонте русской мысли вырастал ужас толстовского движения.
Ни сам старец Амвросий, ни Оптина пустынь, ни Иоанно-Предтеченский скит, ни множество паломников, приходивших к старцу, как к источнику живой воды, – никто из них не знал той великой задачи, того великого дела, которое руками старца закладывал Великий Промыслитель всего живущего в мире – Господь.
Я недавно видел изумительные результаты великого дела, если так можно выразиться, созидающегося и посейчас по воле Божией, на могиле Амвросия.
В. Верещагин. «Святой Григорий проклинает умершего монаха за нарушение обета бессеребрия». 1869
Один только что женившийся молодой человек, правовед, занимающий видное служебное положение, к религии человек настолько безразличный, что, когда его совершенно неверующая жена категорически заявила няне своих трехлетнего Вовочки и 1 S-годичной Ани, что она «никаких глупостей, вроде крестов» на детей надевать не будет, потому что, видите ли, ребенок может крестом и пораниться (?), и уколоться (?!); и что водить она к глупому обряду Причастия своих детей, дабы их не заразить какой-нибудь болезнью, тоже ни за что никогда не будет, – отнесся к этому в высокой степени безразлично. Год назад, совершенно случайно, читал в моем присутствии один господин, бывший у них в гостях, о старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». Этот господин, как оказывается, бывал в Оптиной пустыни, и говорил после о том, что хотя в обществе и говорят, – старец Зосима списан Достоевским со старца Амвросия Оптинской пустыни, это не совсем верно, так как Зосима Достоевского ни в характере, ни в способе говорить, совершенно не похож на праведного Амвросия.
Разговор сразу перешел на вопрос о том, кто такой старец Амвросий. Любезный гость рассказал все, что ему было известно об этом великом человеке. Перешли на беседу об Оптиной пустыни, о старцах – вообще. Словом, муж и жена так заинтересовались Оптиной пустынью, старцем Амвросием и другими старцами, что решили первыми свободными днями отправиться на могилку старца Амвросия, и – в настоящее время более религиозной и верующей семьи, как эта юная семья, я не встречал. Как муж, так и жена редкую субботу и воскресенье пропускают посещение церковной службы. Дети регулярно причащаются. Во всех комнатах находятся образа с горящими лампадами, о чем раньше нельзя было и мечтать; и, мало этого, в нынешнем году (1913), в книге только лишь одной монастырской гостиницы я встретил три-четыре фамилии бывших в этой семье людей, тоже не отличавшихся особенной верой.
Старец Амвросий был неизмеримо велик тем, что, во-первых, он человек нашего времени, нашей эпохи. Плоть от плоти нашей, кость от костей наших. Во-вторых, – человек сравнительно развитой. Он окончил семинарию, а затем в ранней молодости был учителем в Липецком духовном училище. Далее, Александр Михайлович Гренков—так звали Амвросия в миру, был человек жизнерадостный, веселый, танцор, душа общества, для которого монастырь был синонимом могилы.
И вдруг этот человек в монастыре!
Вдруг этот человек, самый обычный, такой же, как мы, личной жизнью и примером свидетельствует, что избранная им жизнь есть идеал того счастья, к которому все мы стремимся.
Этот человек делается обладателем целого ряда духовных даров: прозрения, исцеления, дара духовного назидания и т.д., и т.д.
Мало этого, мы знаем, что этот человек в течение первых лет своей молодой жизни был угнетаем целым рядом мучительных, тревожных вопросов.
И вдруг этот человек получил возможность сам разрешать сомнения целой массы людей; сам – исцелять больные, страдающие души; отвечать на самые сложные, самые мучительные вопросы в жизни.
Значит, служение Богу – не фикция, не досуг праздного ума, а что-то реальное, ощутимое?
И многие умы, не только юные, но даже зрелые, задумываются над этим фактом, как над таким, который сразу разрушает все догматы отрицания, сеет еще большие семена сомненья в грубый материализм и еще энергичнее отводит человеческий взор от новых принципов неверия к давно забытой, чистой, невинной, оживляющей человеческую душу и бодрящей жизнь – вере.
Не буду утомлять вашего внимания подробным очерком жизни этого великого человека, а отсылаю к прекрасным трудам Е. Поселянина «Праведник нашего времени, Оптинский старец Амвросий», и протоиерея С. Четверикова «Описание жизни Оптинского старца Амвросия».
Там можно найти много, над чем следует подумать; что может глубоко запасть в человеческую душу и отразить в ней самые благодатные, живительные начала.
Здесь я скажу только лишь то немногое об этом человеке, что мне пришлось услыхать от людей, близко знавших этого великого праведника.
Старец Амвросий совмещал в себе решительно все, что нужно человеку в самом точном смысле этого слова.
Старинная гравюра «Добрый пастырь».Из книги «История Церкви», 1880
Он шел и на скорбный стон простой деревенской женщины с тяжелыми нуждами ее «бабьей» доли. Он шел навстречу и богатому барину, пресыщенному удовольствиями жизни, и с душой, отравленной – чтобы только она молчала, не стонала, не вопила, – ядом широкого разгула пьянства, разврата, картежной игры.
Он шел и навстречу юному идеалисту, который запутался между «древом жизни» и «древом познания добра и зла», и с страшной беспомощностью шел к старцу, рассчитывая увидать чудо и поверовать.
И старец давал ему это чудо: он тихими словами изумительного смирения, великой любви, проникал в ищущую душу молодого человека и открывал ему правду жизни.
Преображение Господне. Фреска. Фото Й. Седмак
Когда старец Амвросий после Макария выступил на самостоятельный подвиг старчества, у него не было минуты, чтобы кто-нибудь не приходил к нему Надо было видеть количество посетителей при о. Амвросии Оптиной пустыни. В гостиницах не хватало мест; не хватало ямщиков для перегона между Оптиной и Калугой, – тогда ездили в Оптину через Калугу. Посетители неделями дожидались десятиминутного разговора старца. И нужно было удивляться, когда успевал этот великий, и в то же время чрезвычайно слабый здоровьем человек удовлетворять всех жаждущих его. А между тем он находил время и для чтения псалмов, часов, акафистов Спасителю и Божьей Матери; затем диктовались письма; и между этим временем шел непрерывный прием посетителей.
В своей переписке старец Амвросий касался решительно всех вопросов, и нужно удивляться той эрудиции, той глубине знания, и, главным образом, знания человеческой души, с которыми он обсуждал и разрешал самые жизненные вопросы.
Старец Амвросий, прямым продолжателем его следует назвать ныне старчествующего о. Анатолия, являл собой тип истинного, полного духовной жизнерадостности христианина-оптимиста.
Истинно верующий в Господа христианин – тот, вера которого совершенно искренно, безо всякой хотя бы малейшей натяжки понуждает его все свои заботы возлагать на Господа, ибо Он печется о нас.
Поэтому он всегда должен быть оптимистом в точном христианском смысле этого слова.
Храм в честь Преображения Господня в Оптиной пустыни. Фото А. Митрофанова
И вот почему старец Амвросий, всегда измученный, осаждаемый просьбами, всегда находившийся в скорбнице человеческих страданий, несмотря на свою болезнь, на свой более чем 70-летний возраст, – всегда сиял радостью, ясностью и обладал той нравственной бодростью, которую вливал в человеческие сердца.
Нужно ли говорить, что этот человек был живой носитель милосердия и что никто из обращающихся к нему за помощью не отходил от него без нее.
Но, помимо своих назиданий, христианской горячности и милосердия, старец привлекал к себе людей чудными дарами прозорливости и исцеления. Причем в последнем случае высокое служение Христову смирению побуждало его очень часто ставить этот дар в такие условия, при которых он вперед лишал возможности приходящего к нему прославить в нем при жизни это великое Божие благословение.
Обыкновенно он делал так: придет к нему какой-нибудь больной, он побеседует с ним, выслушает его скорбь, а потом и направит его или к Тихону Калужскому, или к Серию Преподобному, и уже по дороге туда больной получает исцеление. Хотя в то же время рассказывают немало и таких случаев, где старец оказывал непосредственное исцеление, осеняя больного или крестным знамением или только лишь словами утешения. Но он всегда давал ясно понять исцеленному, что это «не он, не его сила», а сила Всемогущего Бога или Царицы Небесной.
Что касается дара прозорливости, то в этом отношении около старца Амвросия сосредоточены целые анналы мелких и крупных событий.
Чрезвычайно характерные и трогательные эпизоды сообщил нам из этой области ныне благополучно здравствующий архимандрит мужского Боровского Преподобного Пафнутия монастыря о. Венедикт.
О. Венедикт, как мы уже говорили раньше, был в продолжение многих лет письмоводителем старца Амвросия и его ближайшим учеником.
«И вот, говорит он: приходили к батюшке Амвросию ежедневно сотнями письма. Прочитать, просмотреть их все вовремя не было никакой физической возможности. Батюшка начинает беспокоиться и спрашивать, не получено ли было от такого-то письмо. Ну где же упомнить. Тогда он сам подходит к письмам, вынимает письмо и начинает, не читавши его, говорить, что ответить автору этого письма. Распечатываю письмо, читаю, оказывается, действительно, как раз об этом и спрашивают батюшку.
Далее, – батюшка прекрасно знал, какое беспощадное влияние оказывают на человека злые духи и бесы, и он всегда улавливал момент этого влияния на близких ему людей. Особенно это часто приходилось наблюдать вот при каких условиях: сидишь, пишешь, а он тебе диктует. В течение всего времени следишь за мыслью батюшки, вдруг, как это часто бывает, мгновенно, как будто какая-то рука властно выхватывает твою мысль, отводит ее совершенно в другую сторону и переносит ее на совершенно другой предмет, – и в тот же самый момент старец, бывало, бросает в меня носовой платок и говорит: «посмотри, что ты написал», и действительно оказывается я начинал уже писать совершенно не то, что диктовал мне батюшка…»
Чудный дар прозорливости старца Амвросия по своей необычайности проникновения, и по своей, если так можно выразиться, простоте и легкости, можно смело сказать, превзошел все, что до сих пор было известно в этой области.
Нет ни одного человека из посещавших его, который не испытал бы лично на себе это изумительное свойство великого праведника.
С самых первых слов встречи старец без всякого вопрошания, как бы мимоходом, иногда касался таких тайников человеческой души, что сразу завоевывал эту душу и направлял ее к Божественной правде.
Про этого человека в этом отношении смело можно сказать, что он приуготовил свой талант, данный ему Богом, в необычайном изобилии. Он им распоряжался удивительно разумно, и всегда так, что клал им на человеческую душу глубокий след.
М. Нестеров. «Пустынник». 1888–1889
Рассказывают, что приехал к нему один человек, который, стремясь к наживе, очень часто не брезговал дешевым приобретением мелкой фальшивой серебряной монеты и сбытом ее. Старец при первой встрече с этим человеком, заведя разговор о чистоте души и об ее искренности, взял лежавший неподалеку от него старинного чекана четвертак, и сказал: «Искренность отношения к людям все равно, что приносимая Богу в жертву хорошая монета, а лицемерие, все равно, что фальшивая. Вы ведь вот мастер насчет этого, сейчас узнаете, фальшивая вот эта монета или нет ?» — показал он, протягивая посетителю серебряную монету Пришедший был так поражен этим фактом, что упал перед старцем на колени, рыдая, и просил его молиться об избавлении его от этого греха.
Белый ангел. Фреска. Фото П. Марьяновича
Или другой случай: приехал к нему один пожилой человек, который, имея у себя жену и детей, вел чрезвычайно безнравственный образ жизни, и имел одновременно по несколько сожительств с женщинами, всех их обманывая. Старец завел речь о вере в Бога. Говорил убежденно, с большой искренностью и увлечением. Посетитель слушал и недоумевал; человек он был, по своему убеждению, глубоко верующий, – почему же старец так подчеркивал ему в своей беседе ужас и грех неверия; и был как громом поражен, когда вдруг старец как-то особенно ласково, нежно, даже как будто с какою-то робостью в голосе говорит ему: «Истинная вера человека настолько перерождает его душу, что он в своих собственных делах, в своих собственных поступках делается неузнаваемым самому себе. Вот взять хотя бы жену самарянку. До своей встречи с Иисусом она имела пять мужей. А несомненно, после беседы с Божественным Спасителем мира, о Котором она пошла с проповедью по своей стране, она сделалась женою только лишь одного человека». Посетитель понял, к чему клонилась речь старца.
Приезжает с целью испытания старца юноша, студент. Молодой человек, когда-то веровавший в Бога и очень любивший своих родителей, но в последнее время, сделавшись жертвою новых современных теорий, увлекшись какой-то пожилой да вдобавок замужней женщиной, почти совсем отошел, к прискорбию родителей, от церкви и от веры. Лишь только он вошел к старцу, последний, лежавший до этого момента, по случаю болезненного состояния, в постели, вдруг заторопился, встал, пошел навстречу к юноше; порывисто обнял его и сказал: «Как я рад, как я рад увидеть вас!.. Ведь вас многие не любят, многие осуждают, в особенности ваши родители, а ведь они совершенно не знают, что вы очень, очень скоро оставите все свои заблуждения и вернетесь к тому, что так любили, во что веровали».
Высокий феномен прозорливости с необыкновенным чувством любви, тепла и сердечности так повлиял на молодую душу, что юноша разрыдался, как ребенок, и через короткий промежуток времени действительно все бросил, поступил священником и в настоящее время занимает видное в духовном мире положение, как ревностный служитель церкви.
Если бы я начал рассказывать дальше о великой прозорливости старца Амвросия, только то, что слышал я во время своих двух путешествий в Оптину, то и это составило бы довольно солидную книгу.
А какая масса была зарегистрирована случаев чрезвычайно высокого напряжения этого дара, являющегося ответом или на чью-либо великую переживаемую скорбь, или на мысленный призыв помощи старца лиц, находящихся от него на очень далеком расстоянии.
Расскажу два случая; один, слышанный мною от его преосвященства, епископа Трифона, а другой – от одного из помещиков соседнего с Оптиной пустынью имения.
Один, бывший когда-то очень богатый человек, благодаря различным случайностям жизни разорился в самом точном смысле этого слова и переживал один из тех мучительных периодов, которые неизменно следуют за утратой большого состояния. Он должен был поступить на должность, но к некоторым у него не хватало духа самому обращаться, а другие сами отказывали ему в том соображении, что какой может быть работник тот, кто сам был хозяином, да еще богатым. Нужно заметить, что как этот человек, так и его жена были люди очень высокого милосердия, никогда никому и ни в чем не отказывали, и ввиду того обстоятельства, что их дом стоял неподалеку от большой проезжей дороги, они не отказывали ни одному проходившему мимо них страннику, обращавшемуся к ним за уютом и ночлегом.
В. Суриков. Странник-богомолец. Этюд для картины«Боярыня Морозова». 1885
И вот в один из неприятных дождливых осенних вечеров сидит у окна этот несчастный и думает свою тяжелую думу.
Средств нет, места нет, хоть ложись и помирай с голоду. Вдруг смотрит – сворачивает с большой дороги старик, очевидно, странник, и идет прямо к его окну. Так как на улице моросил мелкий дождик, то этот господин отворил окно и говорит ему: «Денег у меня, старичок, нет, и подать тебе нечего, а если хочешь укрыться от дождя, то войди и посиди тут». Старик вошел, уселся напротив хозяина, стал его расспрашивать о разных разностях, и, между прочим, о его делах. Хозяин с грустью рассказал о своем тяжелом переживании; и, когда закончил свой рассказ, странник сказал ему: «Да что ж ты, барин, мед-лишь-то: неподалеку от тебя, всего в каких-нибудь 12 верстах находится такой человек, как старец Амвросий, и ты не съездишь к нему за советом ? Ведь как много людей к нему ездят, и все получают каждый, что ему нужно… Издалека ездят… Человек он с большим знакомством, с большими связями, быстро поможет тебе». И так странник расположил радушного хозяина, что последний начал расспрашивать, как можно ближе пробраться к о. Амвросию, как его увидеть, и решил завтра же утречком выехать на лошади и непременно побывать у старца.
Исцеление Иисусом десяти прокаженных. Фреска
Во время этой беседы к ним в комнату несколько раз заходила жена хозяина. Кончилась эта беседа, странник взглянул в окно и заторопился идти, потому что стало смеркаться. Хозяин не стал задерживать странника. Последний быстро собрался и вышел. Как раз вслед за его уходом вошла жена, и, не видя странника, спросила мужа: куда же он девался. Тот ей сказал, что странник ушел совсем. Она выразила очень большое неудовольствие: «Как же это ты так отпустил человека на ночь глядя, в такую плохую погоду и даже не предложил стакан чая?.. Другим чем не могли обласкать человека, а чаем-mo могли бы напоить и согреть». Помещик, выслушав это, прямо пришел в ужас: как это он не мог догадаться сделать того, что делал постоянно по отношению почти к каждому прохожему. И, предполагая, что странник еще недалеко, так как он только что вышел, выскочил наружу, чтобы вернуть его. Но увы, хотя место перед ним было открытое, как он ни смотрел кругом, старик точно в воду канул. Пришло утро, запряг этот человек лошадку и поехал в Оптину. Приезжает, разыскивает, как указал ему странник, келью старца; ожидает очереди. Входит в келью и глазам не верит: перед ним стоит вчерашний странник. Помещик вскрикнул было в изумлении, но батюшка Амвросий велел ему ни слова не говорить о случившемся, а сам вошел в соседнюю комнату и говорит кому-то: «Ну вот, дорогой мой, я вам самого хорошего управляющего нашел». Потом вернулся к обедневшему богачу с каким-то господином, познакомил их, и через полчаса впадавший было в отчаяние имел прекрасное место.
Другой случай, слышанный мною от одного из соседних с Оптиною пустынью помещиков, следующий.
У одной госпожи в течение многих лет страдал алкоголизмом ее любимый старший брат. Что человек ни перепробовал, к кому ни обращался, ничего не выходило, а между тем у несчастного рушились и здоровье, и средства. В конце концов дело стало так, что лечившие его врачи объявили, что если он не прекратит пить, то у него произойдет паралич сердца, и он погибнет. Бедная женщина потеряла голову и, не зная, что делать, вспомнила, что в Оптиной пустыни есть такой великий и праведный старец, который молитвою все может сделать; зажмурила глаза, и, хотя никогда не видала о. Амвросия, мысленно представила его себе и начала мысленно же просить его о помощи брату. Так как это было около ночи, вскоре после этого она заснула. И видит во сне: подходит к ней старый старичок, она сразу поняла, что это был старец Амвросий, и говорит ей: «Купи в аптеке на четвертак травы черногорки-старонос, мелко изрежь, наполни две столовых ложки; завари в чайнике кипятком на пять чайных чашек; дай полчаса настояться в печке, потом вынь и пусть больной выпьет все пять чашек зараз, в теплом или холодном состоянии, это все равно. Так как трава эта очень горькая, то ее можно пить с сахаром или с медом. После приема может случиться рвота, но этого пугаться не должно, – это значит, что средство подействовало. Если после этого приема будет опять позыв на водку, то прием надо повторить. После этого лечения пропадет аппетит, но и это не беда, тогда только каждый раз перед пищей нужно принимать по 25 капель желудочный эликсир Витте с 10 каплями Гофманскими в рюмке воды».
Оптина пустынь. Храм в честь Марии Египетской
Женщина мгновенно проснулась, записала ночью этот рецепт. Наутро, когда встала, послала в город за травою. Покамест там ездили, искали траву, привезли ее домой, наступил вечер. Не желая упускать золотого времени, сердобольная сестра приготовила лекарство и уже почти на ночь напоила брата. К великому ужасу ее, перед тем, как ложиться спать, поднялась у брата такая рвота, что у бедной женщины, как говорится, опустились руки. И, как это всегда водится, стали в голове блуждать всякие мысли, в роде того, что-де какая я неосторожная, да разве можно доверять разным снам, а вдруг это какой-либо страшный яд. Словом, бедная женщина не могла заснуть всю ночь и заснула только лишь под самое утро. И снова видит этого же самого старичка, который подходит к ней и говорит: «Не бойся, матушка, я тебе говорю, не бойся. Это безвредно, а рвота – это винное гнездо разоряется».
В то время не было всех этих теорий о само-внушаемости, подсознании и тому подобном, – женщина встала успокоенная, и действительно, с этого момента стремление брата к спиртным напиткам, как говорится, как рукой сняло.
Много лет спустя эта женщина отправилась в Оптину пустынь, и каков же был ее нравственный восторг и удовлетворение, когда она увидела старца Амвросия именно таким, каким она его видела во сне.
Очень часто старец Амвросий касался будущего, но все это происходило у него в высокой степени осторожно, деликатно и смиренно, и дышало трогательной верой.
И очень часто наблюдались такие факты, которые подтверждают вышеприведенное иноческое правило не вопрошать об одном и том же по нескольку раз старца. Случалось так, что старец что-либо предукажет вопрошающему по первому разу. Последнему это или не понравится, или неудобно, невыгодно, не подходит с житейской точки зрения, – он начинает снова переспрашивать старца и упрашивать переменить свое решение. Как необычайно добрый, мягкий и кроткий сердцем, старец Амвросий поддавался таким просьбам и изменял свое решение, но… на деле всегда торжествовало его первое указание.
Относительно прозорливости старца Амвросия существует тоже чрезвычайно много записанных фактов, и из них особенно ярки следующие.
В 1875 году юнкер Энгельгардт окончил курс в Михайловском артиллерийском училище и в 1877 году пошел в качестве офицера на войну. Сестра его, Варвара Энгельгардт, жила в Зосимо-вой пустыни, Московской губернии, и здесь получила письмо от товарища брата, сообщавшее ужасную весть о том, что молодой 20-летний ее брат застрелился. В своем горе она кинулась в Оптину и со слезами передавала о. Амвросию не только свою скорбь об утрате брата, но еще более тяготившие ее опасения за его загробную участь. Когда на другой день она пришла к старцу, о. Амвросий встретил ее радостный и сказал ей, что брат ее жив и здоров. На вопрос ее: увидит ли она брата, – старец отвечал, что она узнает о нем лет через десять. Это предсказание исполнилось в точности. Через десять лет она получила из Америки письмо от брата, которой извещал ее, что он жив и здоров, и извинялся, что так долго держал ее в неведении о себе.
Зосимова пустынь. Надвратная колокольня. Фото А. Савина
Другие два случая я слышал от инокинь учрежденной старцем Амвросием Казанско-Амвросиевской Шамординской женской пустыни.
Высокоуважаемая матушка Наталия, урожденная Самбикина, ныне здравствующая, хотя и имела свою старшую сестру, м. Екатерину Самбикину, игуменьею этой обители, но не только не рассчитывала, не думала, но даже и не имела ни малейшего желания поступать в монастырь. Воспитавшись когда-то в богатом доме своих родителей и оставшись после их смерти без средств, она хотя и занималась педагогической деятельностью, но, несмотря на свой тяжелый труд, не имела ни малейшего желания идти вослед сестры. А между тем мать Екатерина, будучи ближайшим другом и ученицей старца Амвросия, очень сокрушалась об этом, а в особенности о том, что молодая Наталия всячески отстраняла от себя возможность повидаться с ее духовным отцом и другом. И однажды в своей скорбной беседе поделилась этим горем с последним. Старец Амвросий успокоил м. Екатерину и сказал, чтобы она не принимала по отношению к своей сестре никаких мер, ибо в октябре месяце она поступит в Шамординскую обитель.
Амвросий Оптинский, основатель Шамординской обители. Икона
Но увы, проходил уже далеко не первый октябрь после этого предсказания старца, а Наталия Алексеевна и не помышляла о монастыре. Наконец так сложились обстоятельства, что ее потянуло к старцу Амвросию. Потянуло мощно, непреодолимо, а тут у ней скончался брат, – самое близкое и дорогое существо для нее, и ей нужна была какая-нибудь нравственная поддержка. Она обратилась к старцу Амвросию, и была вся охвачена красотой этой неземной сущности, этой любви, этого смирения. И вопрос о вступлении в иночество был решен ею бесповоротно, без малейшего давления с чьей-нибудь стороны. Это было ранней весной, когда педагогическая деятельность заканчивается на летние каникулы, и ей казалось, что именно теперь и должно произойти ее поступление в монастырь. Но совершенно неожиданно для нее так сложились обстоятельства, что она вступила в обитель только лишь в октябре месяце, спустя девять лет после предсказания старца.
Распятие Христа. Фреска
Другой, тоже не менее характерный случай прозрения старца, в даль грядущего, сообщенный мне в Шамордине, был следующий.
Известный благотворитель Шамординой пустыни, С.В. Перлов, человек высокообразованный, воспитанный, полный энергии и самых недюжинных способностей, – как человек своего века и к тому же как один из самых крупных коммерсантов Москвы, постоянно вращавшийся в той среде, где бог – золотой телец, а служение ему выражается в личной сметке, предприимчивости и в искусстве вовремя купить и вовремя продать, – чрезвычайно скептически относился к религии – вообще, и веру в Бога принимал только лишь по традициям; хотя, как человек в высокой степени культурный и развитой, он ни на одно мгновение не стеснял в религиозных побуждениях свою супругу, А.Я., эту очень большую женщину, – чрезвычайно религиозного и искренно верующего человека. И вот последняя, высоко ценя духовную природу и качества своего мужа, страшно скорбела душою об его индифферентности к вопросам веры, и очень часто высказывала свою скорбь старцу Амвросию, испрашивая его советов, что нужно предпринять для приведения к Распятому и Воскресшему Иисусу, и к Святой Апостольской церкви своего мужа. Старец успокаивал доброе сердце, полное Христовой любви, женщины и говорил: «Попомни мое слово: С.В. будет нашим лучшим другом».
И действительно, стоит только взглянуть сейчас на эти миллионные здания, которые воздвигнуты покойным С.В. Перловым, в Шамордине, о которых мы будем говорить ниже; стоит припомнить уверения этого маститого деятеля, что с тех пор, как он обратился к Господу, на него посыпалось, как из рога изобилия, чудное Божие благословение: «Что бы я ни предпринимал за это время, что бы ни начинал, все мне давало в десять крат больше выгоды, нежели моим конкурентам», – уверял он пред концом своих дней, – чтобы понять, что слова старца Амвросия были не словами праздного человека, а Боговдохновенного ясновидца.
Кроме архипастырей церкви, о. Амвросия посещали и многие выдающиеся светские лица, искавшие у него указания жизненного пути или ответов на мучившие их вопросы жизни. Был у него в 70-х годах Ф.М. Достоевский, приехавший к нему искать утешения после смерти горячо любимого сына. Старец отнесся к нему с расположением и сказал о нем: «Это кающийся».
Вместе с Ф.М. Достоевским был и Вл.С. Соловьев, о взглядах которого старец, как передают, отозвался неодобрительно. К.Н. Леонтьев жил несколько лет при старце Амвросии и по его благословению принял в Оптиной пустыни монашество.
В 1887 году о. Амвросия посетил Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович, проведший некоторое время с ним в задушевной беседе и после с любовью к нему относившейся.
Несколько раз был у старца граф Л.Н. Толстой.
В первый раз Л.Н. Толстой был у старца вместе с H.H. Страховым в 1874 году; во второй раз пришел пешком в 1881 году в крестьянской одежде со своим конторщиком и сельским учителем, а в третий раз в 1890 году приехал к нему со своею семьей.
Сильное впечатление произвел о. Амвросий на графа Л.Н. Толстого, во второй его приезд.
Свое впечатление от разговора со старцем Толстой передавал так: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко стало и отрадно у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога». Это было сказано гр. Толстым в 1881 г. А в 1890 г., выйдя от старца, он сказал окружающим его лицам: «Ярастроган, я растроган».
Последние дни своей жизни старец Амвросий делил свою деятельность между по-прежне-му приходящим к нему скорбным людом и сози-данием указанной выше женской Шамординской пустыни, о которой мы будем говорить ниже. И, благодаря своему преклонному возрасту, изнурявшей его на протяжении многих лет мучительной болезни, 10-го октября 1891 года он отошел к Тому, Кому так чудно, так славно и так назидательно служил почти с ранней своей молодости, и к нему можно вполне применить прекрасное стихотворение, хотя и написанное на утрату другого лица, но сродного ему и по духу, и по деятельности, – великому старцу в миру – о. Иоанну Кронштадтскому.
…Он был жив, – мы сердцем не робели,
Он был жив, – и были мы сильней;
Умер он, – и мы осиротели,
Умер он, – и ночь еще темней.
Ночь темней, – а мы так одиноки
В грозном море – слабые пловцы…
Миру нужны вещие пророки
И с душою детской мудрецы.
В злобном вихре беспощадной битвы
Мир совсем забыл бы небеса,
Если б смолкли праведных молитвы,
Прекратились Божьи чудеса.
И нисходят в грешный мир святые,
И низводят с неба благодать…
Подвиг их – целить сердца больные
И умы заблудшие спасать.
Умер он – молитвенник народный,
Умер он – народный иерей,
И ненастной ночи мрак холодный
Стал еще темней и холодней.
Пусть он с нами вечным духом ныне,
Но не слышим мы его речей…
Не сияет в жизненной пустыне
Свет его ласкающих очей.
Оросив горячими слезами
Мертвый камень гробовой плиты,
Шепчем мы дрожащими устами!
«Без тебя мы в мире сироты».
Н. Кошелев. «Не плачьте, дщери Иерусалимские!» 1899. Церковь Святого Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме
Московский Кремль, колокольня Ивана Великого. Фото С. Буторина
В заключение я не могу не сказать о том, что праведный старец Амвросий и после своей кончины не оставляет обращающихся к нему
В этом направлении уже есть много случаев, проникающих в печать и живущих в народе.
Старец продолжает свое служение, как и продолжал, и очень многие и по настоящее время посещают могилу великого старца, служа о нем панихиды, как великое благодарение за его незримую помощь.
Как на яркий факт, подтверждающий это, я считаю необходимым указать на следующий в высокой степени интересный случай, бывший лично со мною.
После того как оптинские старцы, как это мы увидим ниже, окончательно воскресили мою душу, и когда я твердо решился покончить со своим нехорошим прошлым, я, с благословения Его Высокопреосвященства Петербургского митрополита Владимира, по указанию старцев решил выступить на открытую проповедь против спиритизма, оккультизма и других знаний, тесно связанных с вызыванием духов, черной магией, и со всякой другой мерзостью, перед лицом Бога Живого, чему я когда-то так долго и ревностно служил. И я решил сделать первое свое выступление с публичной лекцией об Оптиной пустыни. Незаслуженная мною любовь и снисходительность ко мне высокоуважаемого епископа Дмитровского Трифона снабдила меня чудными картинами из его библиотеки об Оптиной пустыни; но мне хотелось, чтобы это мое начинание благословил великий почивший старец Амвросий, каким будет только угодно ему путем.
Я долго молился об этом; долго это было моей заветной мечтою, и, несмотря на то что я в это время находился в Москве, никакого общения ни с Оптиной пустынью, ни со старцами не имел – я тем не менее чувствовал и верил, что это благословение я каким-нибудь путем, но получу.
И моя вера не обманула меня.
Отправившись перед своим отъездом в Петербург, – где я впервые читал эту лекцию, – в Успенский собор испросить незримого благословения своего пути у великих московских святителей, я встретил там дивного христианина, преисполненного великой Христовой любви, ктитора собора, полковника A.B. Пороховщикова. Я его, собственно говоря, знаю давно, да и не знать уважаемого A.B. нельзя. Вечно живой, вечно трудящийся, вечно радующийся благолепию храма, радующийся своим трудам, своим заботам, он для меня, да простит мне это мое публичное признание, является, я думаю, как и для многих, знающих его, тою светлою искоркой на мрачном фоне жизни, которая с Христовой любовью, с Христовым смирением, твердо стоит «в своем служении», и поэтому лишние минуты беседы с таким человеком всегда дороги тем, что они обновляют каждую чуткую, сенситивную натуру. И я всегда если встречал и встречаю его, стараюсь неукоснительно послушать эти полные любви смиренные речи о Христе, о вере, о храмах Божиих, посмотреть на эти кроткие, добрые глаза. Но дальше этого наше знакомство не шло, я даже не знал, где находится квартира A.B. Но на этот раз разговор как-то перешел на святыни, находящиеся вне Успенского собора. Заговорили о восточных святынях и памятниках. И он сказал мне, что у него в квартире находится частица древа Святого Животворящего Креста Господня, подаренная ему во время его пребывания в Иерусалиме иерусалимским патриархом, с его грамотой. Видя на моем лице умиление и восторг по поводу этого сообщения, он, как человек, повторяю, необычайной доброты, тотчас же предложил мне зайти к нему на квартиру и лицезреть эту святыню. Должен признаться, что я в этот день должен был уехать в Петербург, поэтому торопился скорее домой; так что это приглашение несколько смутило меня, и я думал было отклонить его до другого, более удобного времени; но, глядя в эти светлые, полные глубокой веры и добродушия глаза, я не посмел этого сделать и решил хотя бы на минутку зайти к доброму A.B.
Квартирка, скорее келья, A.B., который живет совершенно одиноко, находится в двух шагах от Успенского собора, под колокольней Ивана Великого. Я вошел в небольшую переднюю, снял галоши, пальто, и лишь только вошел во вторую малюсенькую комнатку, оглянулся направо и обомлел от счастья, от восторга и от святого благоговения: предо мною стоял портрет, почти в нормальную величину, старца Амвросия, если не оригинал, то, во всяком случае, прекрасная копия с одного из Болотовских портретов старца. Прекрасные лучистые глаза великого старца с его доброй-доброй неземной улыбкой охватили меня восторгом какого-то поразительного счастья, какой-то необычайной духовной полноты и удовлетворенности. Я понял все, и не мог пересилить себя, опустился на колени перед этим чудным изображением, и, склонивши голову на стоявший под портретом кожаный диван, пролил слезы умиления и благодарности. Когда я тут же все чистосердечно рассказал A.B., мы оба поняли, что старец внял моей просьбе и благословил меня на это мое первое выступление под эгидой не «врага Христа», а «раба Христа».
Этот случай глубоко запечатлелся в моей душе, и этого великого чуда я не могу сравнить ни на одно мгновение по красоте, по полноте того духовного удовлетворения, которого не найдешь ни в каких других областях человеческого знания, не только с теми спиритическими феноменами, которые я наблюдал за долгие годы своей деятельности в этом направлении, а даже со спиритическими феноменами всего мира, от его появления до наших дней; да и не должно сравнивать, ибо это греховно, кощунственно сравнивать Божеское с сатанинским.
Скажу только одно, что сколько я ни читал самых разнообразных лекций в открытых и закрытых собраниях до этого время, в платных и бесплатных, я никогда не имел такого успеха, как с той лекцией. Несмотря на то, что очень многие предсказывали полный неуспех ее, во-первых, потому, что она не имела кричащего названия («Тихие приюты для отдыха страдающей души»), а затем – в ней трактовалось об обителях, пустынях, монахах. – «Ведь это так неинтересно». – Но где я ее ни читал, она проходила всегда при переполненной аудитории, а в некоторых местах ее даже приходилось повторять по два раза.
Тригорский Свято-Преображенский мужской монастырь. Фото В. Зайцева
Другой случай посмертного влияния старца мы видим в следующем эпизоде.
Одна молодая девушка, очень религиозная и серьезная, стремилась всей душой в монастырь. По окончании гимназии, она сделалась учительницей, а сама между тем стала присматриваться и прочитывать всевозможные описания разных женских обителей, но никак не могла остановиться в выборе. Много прочла она очень пространных и интересных описаний монастырей и их основательниц, но все что-то говорило ей, что это – не ее место, что не здесь ей быть, а где? Она не могла дать себе ясного отчета. В 1891 г., перелистывая полученный журнал «Нива», она увидела портрет о. Амвросия Оптинского и очень коротенькую при нем заметку о том, что старец этот скончался в устроенной им Казанской женской общине. Несмотря на то, что изображение старца Амвросия в журнале было довольно плохое, оно поразило молодую девушку. Взгляд его проницательных и вместе бесконечно добрых глаз даже с картинки проник прямо ей в душу, и она тут же почувствовала, что должна быть в обители, основанной этим старцем. В журнальной заметке ни о самом старце, ни об обители ничего особенного сказано не было, но в душе ее уже сложилось твердое решение. Вскоре она тайно от матери, уехала в Оптину пустынь, а оттуда в Шамордино, где и осталась навсегда.
После кончины праведного старца Амвросия его место занял тоже не менее известный среди верующих посетителей Оптиной пустыни его бывший келейник старец Иосиф.
Исследуя довольно подробно и хорошо составленную биографию этого старца, изданную Казанско-Амвросиевскою женскою пустынью, можно без преувеличения сказать об этом подвижнике духа и любви к ближнему, что «весь он был создан для служения Господу».
Икона Божией Матери «Знамение»
Родившись в 1837 году в семье благочестивых, простых, очень умных людей: Ефима Емельяновича и Марии Васильевны Литовкиных, Ваня Литовкин, так звали в миру старца Иосифа, – с самого раннего возраста определился своей нежной, чуткой душой, умевшей особенно быстро схватывать, понимать и чувствовать чужое горе, а затем – таким исключительным благонравием и любовью к Церкви, к Слову Божию, что очень многие замечали на нем особую печать благоволения Божия, а некоторые прямо говорили, что из этого ребенка выйдет что-нибудь «необыкновенное».
Богоявленский женский монастырь. Кострома
Кроме того, еще с самого малого возраста, когда Ване было восемь лет, Божественный Промысел отметил его нижеследующим чудным событием.
Играя однажды с товарищами, он совершенно неожиданно как-то вдруг изменился в лице, поднял голову и руки кверху и без чувств упал на землю. Мальчика подняли, принесли домой, и, когда он пришел в себя, стали расспрашивать о случившемся. Мальчик сказал, что он увидал в воздухе Царицу.
– Да почему же ты думаешь, что видел Царицу? – спросили его.
– Да, потому, что на ней были корона с крестиком.
– Ну, а почему же ты упал?
На это мальчик потупил глаза и сказал: «около нее было такое солнце… такое солнце… я не знаю, не знаю, как сказать»… и заплакал.
Это видение оставило в душе мальчика глубокий след.
После этого он сделался необычайно тих, задумчив, стал уклоняться от детских игр. Взгляд его кротких глаз сделался еще более глубоким, и в его детском сердечке загорелись живая вера и любовь к Царице Небесной.
Когда Ване было четыре года, он потерял отца, а когда ему наступило одиннадцать лет, он утратил и горячо любимую им и горячо любящую его мать.
Вскоре после этого ему, как человеку безо всяких средств, пришлось искать труда; и вот началось мыканье по различным местам. Но это обстоятельство ни капли не испортило характер Ивана; наоборот, он как-то умел своей скромностью, глубокой верой и любовью к Господу, облагораживать сердца всех тех людей, около которых он вращался и у которых он служил. Наконец один из его хозяев настолько обратил на него внимание, и так полюбил его, что хотел выдать за него замуж свою дочь и передать ему все свое дело. Но путь Ивана был уже предрешен. Он отпросился на богомолье и больше не возвращался на старый путь жизни. С котомкой на плечах отправился он на поклонение в Киево-Печерскую лавру; а по пути зашел в Борисовскую женскую пустынь, где у него была монахинею сестра. Здесь он встретился с очень мудрой и известной в то время в этой пустыни старицей, схимонахиней
Алипией, которая долго беседовала с молодым человеком, и затем сказала ему: «Зачем тебе идти в Киев, иди в Оптину к старцам».
Киево-Печерская лавра. Фото С. Камшилина
На следующей же день Иван отправился в Оптину и, само собою разумеется, к светильнику ее – старцу Амвросию. Говорят, что по пути к Оптиной он встретился с двумя монахинями Белевского монастыря, которые ехали туда же, и, как не знающий дороги, обратился к ним с просьбой объяснить ему: так ли он идет в Оптину? Монахини взяли его с собой, на козлы.
Приехав в Оптину, к старцу Амвросию, монахини сказали ему между прочим: «А мы, батюшка, привезли с собой еще брата Ивана». — Называя его в шутку братом, они имели в виду монашеские наклонности Ивана. Старец серьезно посмотрел на них и сказал: «Этот брат Иван пригодится и вам, и нам».
Таким образом великий старец предсказал все будущее молодого человека.
С тех пор Иван остался в Оптиной; затем сделался келейником Амвросия, и, говорят знающие его, что более высокого смирения, более поражающей, изумительной кротости, какие были у старца Иосифа, не видал никто, нигде из его современников.
Не распространяясь о его служении, о его молитвах, достаточно сказать, что о. Иосиф был точным отражением старца Амвросия и по жизни, и по учению, и отличался от последнего только внешнею формою отношения к людям.
В то время о. Амвросий был человек образованный, обладал самым всесторонним умственным развитием; по характеру был живой, общительный. Речь его была, помимо ее благодатной силы, увлекательна яркостью мысли, образностью выражения, легкостью, веселостью, в которой скрывалась глубокая мудрость, как житейская, так и духовная, – Иосиф был чрезвычайно сосредоточен, речь его была сдержанна и дышала только лишь одним святоотеческим учением.
Как монах, он не допускал никаких уступок и компромиссов. Никогда не был особенно ласков, хотя был снисходителен и мягок. С более близкими, преданными ему людьми, он был, пожалуй, даже строг и совершенно непреклонен. Конечно, этот метод помогал ему вырабатывать в руководимых им абсолютную преданность, покорность и смирение.