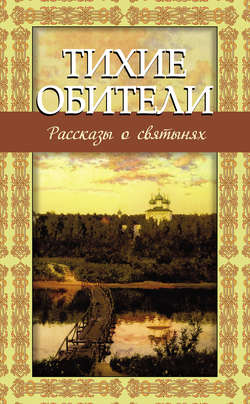Читать книгу Тихие обители. Рассказы о святынях - Группа авторов - Страница 3
В.П. Быков. Оптина пустынь
Скит
ОглавлениеСтоит только выйти из Оптиной пустыни по направлению к лесу, и здесь, на расстоянии 170 саженей, помещается в глубине леса совершенно уединенный скит для избранных лиц, стремящихся и способных к созерцательной молитве. В настоящее время этот скит представляет собою центральное место как для самих иноков, так и для богомольцев, приходящих в Оптину пустынь.
Ведь в Оптиной пустыни, собственно говоря, не имеется никаких исключительных святынь. И последняя привлекает к себе беспрерывную массу паломников, несмотря ни на какое время года, только лишь исключительным настроением обители, высоким подвигом и строгим образом жизни иноков, и, главным образом, старцами.
Насколько высоко и возвышенно настроение Оптиной пустыни, может испытать на себе каждый, побывавший в ней.
Я не говорю уже о таких великих деятелях и умах, какими должно назвать Н.В. Гоголя, как известно, получившего в Оптиной пустыни полное возрождение своей духовной природы; момент, который разделил Гоголя: на Гоголя – творца «Мертвых душ», «Ревизора»; и на Гоголя, давшего высокохудожественные произведения духовно-христианского творчества, в виде его «Размышления о божественной литургии»; затем И.В. Киреевского, в котором, опять-таки благодаря той же Оптиной, получился коренной переворот в личных воззрениях. До Оптиной И.В. Киреевский был питомец западно-европейской, вольтерьянской, философствующей мысли, сторонник Гегеля, Шиллинга и К°; после Оптиной – это было истинное дитя Христова учения, воспитанное молоком Священного Писания и назиданием святых отцов, A.C. Хомякова, К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского…
А. Васнецов. «Скит». 1901
Не будем даже останавливаться на ярком факте какой-то чудодейственности, неотразимости Божественной благодати этого места, ощущавшейся сведшим на степень обыкновенного человека Господа нашего Иисуса Христа и отрицавшим православную церковь, как таковую, – Л.Н. Толстым, который очень часто, по свидетельству многих из оптинских иноков, придет, бывало, верхом на лошади, поставит ее в гостинице № 6, а сам отправится пешком за скит.
И. Репин. «Л.Н. Толстой на отдыхе в лесу». 1871
Сядет там на пенек, и иногда по 4, по 6 часов, не сходя с места, сидит и обдумывает какую-то угнетающую его мысль, разрешает какой-то тяжелый вопрос. Не будем говорить здесь даже о том, что этот, запутавшийся в своей собственной гордыне, колосс человеческой мысли инстинктивно, как слепой тянется к лучам согревающего солнца, тянулся туда перед концом своей жизненной эпопеи. Не будем говорить об этих великих людях, а проверим свои личные переживания в Оптиной, а затем в скиту, и, мне кажется, каждому из нас, когда мы были в этих местах, хотелось сказать словами патриарха Иакова во время его пребывания около Вефиля, где он видел знаменитый сон, – лестницу от земли до неба: «это место не что иное, как дом Божий, это врата небесные».
Во время моего двукратного пребывания в Оптиной мне приходилось говорить со многими из бывших там интеллигентных паломников, и все они в один голос уверяли, что за время довольно продолжительного пребывания здесь некоторых из них их всегда какая-то непреодолимая сила влекла в чащу Оптинского скита, к старцам.
– Не беспокоить их, не беседовать с ними, – говорил мне один отставной генерал, – а только бы вот посидеть на святом порожке у старцев, подышать и подумать в этой благодатной чаще божественного леса.
И так, повторяю, в Оптиной пустыни исключительных святынь – нет, но сама по себе Оптина пустынь изумительно богата массою привлекающих к себе каких-то духовных начал. Здесь что ни шаг, то пункт для какого-то духовного удовлетворения, для какой-то необъяснимой полноты души.
Начать с поразительной красоты берегов, окаймляющих одну из естественных границ Оптиной пустыни, – реку Жиздру. Словно сад какого-то богатого владельца раскинулся по всему ее берегу красивый бархатистый перелесок. Смотреть хочется – нет, этого мало, это неверно сказано, – отдохнуть хочется; невольно тянет туда, в эту благодатную чащу; какая-то неведомая сила влечет и говорит, что там за нею есть что-то вечно ласкающее, вечно умиротворяющее… Что там, за этим берегом, за этой прихотливо раскинувшейся зеленью находится другая зелень, зелень смысла и истины человеческой жизни; та неопалимая купина, которая на протяжении многих лет горит неугасаемым духовным огнем.
Икона Божией Матери «Утолимоя печали». Из трапезной церквиСергия Радонежского Троице-Сергиевой лавры, г. Сергиев Посад
Огнем очищения человеческой души. Огнем вразумления, утратившего и силу воли, и соль правильной оценки жизненных явлений человеческого разума. Огонь оздоровления больных, издерганных нервов, искалеченной обстоятельствами человеческой души.
Икона Иисуса Христа. Фото А. Ефимова
Чувствуешь, что это «великое место», «святое».
«Место, на котором ты стоишь – свято», и вы ищете пути к этой вечно пылающей неземным огнем купине.
Так и тянет к Оптиной пустыни, в какое бы время года, в какую бы погоду не подъезжали вы к ней, – неизменно говорят те, которые посещают пустынь: безразлично по отношению к количеству посещения ее, будь это первый, будь это десятый раз…
Вот перед вашими глазами хорошо устроенный, чистый – ни соринки на полу, – паром, который плавно подходит к берегу, направляемый седовласыми монахами.
Ваши лошади въезжают, вы переплываете эту темно-зеленую зыбь и чувствуете, что вы ближе и ближе к той невидимо манящей вас благодатной купине, в которой вы, чувствуете, найдете все, что нужно для вашей другой, быть может, не совсем понятной еще вам самим, духовной жизни.
А этот тихо и плавно покачивающейся паром с своими необычными хозяевами – монахами, разбивая легким шорохом быстробегущие волны Жиздры, как будто нежным шепотом повторяет вам ветхозаветное: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».
Оставь там, на том берегу, все то, что угнетало тебя в личной жизни, что не давало тебе возможности отдаться всей душой Тому, Кто, благодаря насельникам этого святого места, вечно пребывает здесь…
«Вы …осеняете себя крестным знаменем, как бы предъявляя Этой Великой Привратнице обители свой драгоценный документ, свидетельствующий о том, что вы носите имя Ее драгоценного Сына»
Этого мало, вы на фактах убеждаетесь, что «это место свято», что его оберегают от всего, что может так или иначе нарушить его святую тишину, его исключительную благодатную гармонию. Подъезжая к берегу, мы невольно делаемся свидетелями разговора между мужиком, сидящим на монастырском берегу, и монахом на подплывающем пароме:
– Отец, что же ты не взял с того берега странника-то?
– Не могу, родненький… Не могу. Нетрезв он, да вдобавок с гармонией в руках. Пусть выспится и «струмент-то» этот свой поганый на квартире в городе оставит, – тогда милости просим в нашу обитель.
Паром ударился о край пристани. Монах бросился прикреплять его к последней. Отодвинули засов. Лошади весело дернули на гористую дорогу к монастырю, и почти наравне с кельей-избушкой отца паромника вы увидали как бы встречающее вас изображение Пресвятой Богоматери «Утоли моя печали».
Благоговение охватывает вашу душу, вы невольно снимаете фуражку и осеняете себя крестным знаменем, как бы предъявляя Этой Великой Привратнице обители свой драгоценный документ, свидетельствующей о том, что вы носите имя Ее драгоценного Сына и состоите в той великой армии, которая ограждает себя от врагов видимых и невидимых, и лично своих, и лично Его, – символом Того Креста, на котором Он был распят за весь греховный мир.