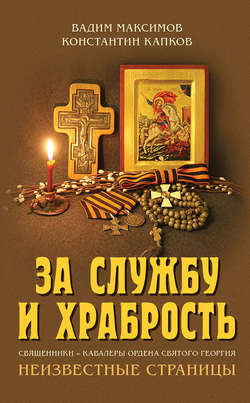Читать книгу За службу и храбрость. Священники – кавалеры ордена Святого Георгия. Неизвестные страницы - Константин Капков - Страница 6
Русско-турецкая война (1787–1791). Россия, Сербия и Черногория. Наполеоновские войны начала XIX века
2. Переселение сербов в Малороссию
Протоиерей Филофей Вуколин Владевич
ОглавлениеСерб Филофей Вуколин Владевич – еще один священник, пополнивший список Георгиевских кавалеров за участие в штурме Измаила. Мы не знаем точно, когда он родился, известно лишь, что около 1730 года был рукоположен в священный сан. Если это произошло хотя бы в 20-летнем возрасте, к моменту штурма стен крепости в 1790 году ему уже перевалило за 70.
Еще в царствование Императрицы Елисаветы Петровны он начал оказывать русскому правительству «большие гражданские услуги». Очевидно, под этими услугами подразумевается организация переселения сербов с земель Османской Империи в малороссийские Новую Сербию и Славяносербию.
Из аттестата, выданного священнику Яковом Эздемировичем, видно, что Филофей Владевич выполнял порученное ему дело со всем тщанием, в результате чего был заключен турецкими властями в тюрьму, из которой освободился выкупом, лишившись через то всего своего состояния. Документ содержит также любопытные подробности, проливающие свет на то, как оказывались эти самые «гражданские услуги». Материалы, касающиеся серба Филофея, были опубликованы в «Записках Одесского общества истории и древностей» за 1872 год.
Аттестат.
По указу Ее Императорского Величества. Я нижеподписавшийся Славяно-Сербии команды господина генерал-Maiopa Прерадовича секунд-маюр Эздемирович дал сей аттестат вышедшему из турецкой области православной кафлической веры греческого исповедания священнику Филофею Вуколину сыну Владевичу о том, что оный Владевич от 754 года, как мною чинимым о самохотном в высокославную Ее Императорского Величества Империю выход Сербскому народу вызов, в то время испрошен он мною от тамошнего сербского святейшего патриарха Гавриила и пецского для вспоможения в вызове мною означенного народа и преподаяний по христианскому закону треб, находился он все то время при мне в той турецкой области, прилагая свои старательства до 756 года, а по отходе моем с некоторым собранным числом народа в Россию, оный священник оставлен мною при другом числе таковым же желающим к переходу в Росийскую Империю народе, для вспоможения их во всех нужностях, а паче для увещевания к лучшему в выходе умножения до моего прибытия, которой как со мною паче же и по отъезде моема за вызов вышеписанного желающего в Россию народа, многие от турок нападения, тож под караулом в железах в турецкой тюрьме чрез 6 месяцев держимый претерпевал все крайние изнурения и нужды, от чего избавляя себя искупом, имущества своего лишился [выделено нами. – Авторы]. Когда ж паки я из России с Высочайшим Ее И. В-ва указом для выходу означенного оставшегося с ним народа в пограничной цесарской город Петервардин в 757 году сентября 3 дня прибыл, то он Владевич как скоро чрез письмо мое о приезде моем уведал, тотчас с упоминаемым оставшимся народом из турецкой области ко мне прибыл, и со оным навербованным мною народом, в 758 году в Россию следовал, с преподаянием оному народу всяких по христианскому закону треб, даже до города Киева. И понеже вел себя постоянно, и по умножению в вызове в высокославную Российскую Империю иностранного народа прилагал неусыпное и рачительное старание в трезвенном кондуитом беспорочно, так как до сана священнического принадлежит, со всяким благочинием вел себя, чего ради я о таковом его Владевича добропорядочном во всем старании сим аттестатом свидетельствую. Марта 19 дня 1763 году.
Секунд-майор Яков Эздемирович.
Мы видим, что Славяносербия пополнялась исходом подобных групп из завоеванных Османской Империей земель, и узнаем точный год прибытия переселенцев с отцом Филофеем в Россию: 1758. Дальнейшая судьба и послужной список отца Филофея по-военному четко изложен уже после штурма Измаила Матвеем Платовым:
Аттестат.
Священник Филофей Владевич во время бытия своего в турецкой области в городе Ужице в 1754 году с майором Эздемировичем проходил разные турецкие города и села, из которых вызываемы были народы в Россию на жительство, за что по узнании турками был он взят и содержен в темнице чрез шесть месяцев, при чем имение его все забрато и дом собственный до основания разорен. А по выходе его в 1758 году в Россию определен полковым священником в старой Македонской полк, при котором и находился в бывшей тогда Прусской войне, а по переводе в Жолтой гусарской полк был и в прошедшей турецкой при взятии городов Бендер, Белагорода и других, до окончания той войны. Сверх же того во время упразднения Запорожской Сечи и по многим местам продолжал походы; а с начала нынешней с турками войны находился при взятии городов Очакова, Бендер и Кили, также и при штурме Измаила был в четвертой козачей колоне, шел с нею на лесницу и ободрял войско к поражению неприятеля, где прострелен пулею у него с правой стороны в рясе рукав; а по окончании штурма находился при раненных в преподаянии по должности священнической христианских треб, и ныне продолжает службу при войске Екатеринославском вверенном мне.
Бригадир и кавалер Матвей Платов.
Матвей Иванович Платов – тот самый казачий атаман, который в грядущей войне 1812 года будет командовать всеми казачьими полками. Аналогичное представление дал отцу Филофею и Михаил Голенищев-Кутузов, на тот момент командующий Бугским егерским корпусом.
Сербские военные поселения в Малороссии начали возникать на правом берегу Днепра, севернее нынешнего Кировограда[6] на Украине. Мысль о заселении пустынных донецких степей посетила еще Петра Первого. По этим степям проходила фактическая граница с Крымским ханством, постоянно будоражащим окраины России своими набегами. Сербы, гонимые со своих земель, готовы были к массовым переселениям, и их присутствие на землях Малороссии было выгодно как России, так и самим сербам. Первая грамота на вывод сербов из Австрии была выдана Петром I майору Албанезу в 1723 году.
Но до реального появления поселения сербов в Малороссии прошло еще несколько десятилетий. Лишь при Елизавете полки Ивана Хорвата основали Новую Сербию, а чуть позже на юге Луганщины, между речками Бахмуткой и Луганью, стараниями Ивана Шевича и Райко Прерадовича возникла Славяносербия. Новое административное образование подчинялось непосредственно Сенату и Военной коллегии. Административным центром, общим для обеих областей, стал город Бахмут. Соответствующие указы, касающиеся Славяносербии, Императрица Елизавета Петровна выдала Шевичу и Прерадовичу 29 марта и 1 апреля 1753 года. На ландкарте были обозначены четкие границы поселения, охватывавшего собой область от Бахмута до Луганска.
Сами же поселенцы сравнивали свою жизнь на новых землях с положением уцелевших после кораблекрушения на необитаемом острове. В первый год народ откровенно голодал – приходилось питаться диким чесноком и прочими травами. Только на второй год удалось устроить огороды, засеять хлеб и обзавестись птицей и домашним скотом. Однако крымские татары и ногайцы не переставали время от времени отбирать у новоприбывших последнее. Так что дел у Шевича и Прерадовича на новом месте хватало.
Собственно, задачей военных поселений было формирование гусарских полков. И хотя Шевичу и Прерадовичу не удалось набрать достаточного количества воинов, все же в Славяносербию перебралось около тысячи сербов: в команде Шевича было более шестисот человек, и в команде Прерадовича – более четырех сотен.
Отец Филофей, как видно, вербовал свою группу на территории Османской Империи, а потом сопровождал ее на всем пути до самой Малороссии, духовно окормляя переселенцев. Очевидно, таких групп было много, но все равно требуемого количества переселенцев собрать не удалось. По причине недокомплекта конные гусарские полки Шевича и Депрерадовича (приставка де- появилась, чтобы подчеркнуть дворянское происхождение) были слиты в 1764 году в один Бахмутский гусарский полк. К августу 1764 года в полку числилось 1089 человек.
На Российской земле до второй Турецкой войны отец Филофей успел прослужить полковым священником более тридцати лет. В 1791 году «за отличие при штурме крепости Измаил 11 декабря 1790 года» он был Высочайше пожалован наперсным крестом на Георгиевской ленте, украшенным брильянтами, и саном протоиерея. Крест, присланный от действительного статского советника А.А. Безбородко, был возложен на отца Филофея архиепископом Екатеринославским, Херсонским и Таврическим Амвросием (Серебренниковым) 9 января 1792 года.
Однако, в отличие от отца Трофима, пожизненная пенсия ему назначена не была. Отец Филофей счел это несправедливым, и в январе 1793 года отправил в Святейший Синод «ходатайство о назначении за его подвиги пенсии». В нем он пишет: «В прошедшую турецкую войну [1768–1774 годов] был при взятии городов: Бендер, Белгорода и других до окончания той войны, где и братья мои два, будучи уже офицерами, убиты. С начала же оконченной в прошедшем 1791 году с турками войны был при взятии городов: Очакова, Бендер, Килии, а также и при штурме Измаила с казачъею колонною лез по лестнице в крепость, где прострелен у меня пулею с правой стороны в рясе рукав, за что награжден от Ея Императорского Величества крестом. Бывший же на сем штурме протоиерей Куцинский получил равно со мною крест и сверх онаго по 300 рублей в год от казны пенсии».
Отца Филофея действительно могло задеть сравнение с Трофимом Куцинским. Налицо имелась и прострелянная ряса, и турецкая темница, и имущество, потерянное ради выполнения задания России… По завершении военной кампании он вполне мог остаться хоть и с золотым крестом, украшенным бриллиантами, но без прихода и, соответственно, без средств к существованию. Учитывая нищету поселенцев, в период между войнами положение полкового священника могло быть отчаянным. Ежегодная пенсия при этом являлась существенным вспоможением. Так что подать прошение отца Филофея могла вынудить крайняя нужда, а не только ущемленное чувство справедливости. В массе своей священники, а тем более священники, лишившиеся постоянного прихода, не могли похвастаться приличным достатком.
К прошению отец Владевич приложил множество аттестатов, выданных разными воинскими начальниками, где очевидцы в один голос свидетельствовали, что при штурме Измаила отец Владевич «шел впереди с крестом для ободрения военнослужащих и всходил тут же на лестницу, никогда не отлучаясь, за которым и все яко за усердным к Богу молитвенником шли и побеждали неприятеля с немалою бодростию тако, что вся колонна весьма сим одолжена». Хотя здесь наше воображение пасует перед картиной 70-летнего старца в рясе, вместе с солдатами цепляющегося под градом пуль за хлипкие перекладины качающейся 6-метровой лестницы… Но кто знает, как оно было на самом деле. Сегодня нам трудно представить, на что были способны наши предки более чем 200 лет назад. Может быть, отцы командиры не сильно отступали от истины в своих аттестатах, желая оказать помощь пожилому священнику.
Надо отдать должное тому, что сама Императрица нашла возможность восстановить справедливость в отношении полкового священника. 16 февраля 1793 года через генерал-майора В.С. Попова, личного секретаря Г.А. Потемкина, Императрица повелела митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу пристроить отца Филофея «к месту по его званию». И хотя ежегодной пенсии отец Филофей все-таки не получил, от Монарших щедрот была ему выдана единовременно тысяча рублей.
И вот, уже 19 августа 1793 года Указом Екатеринославской духовной консистории настоятель Дубосарского Успенского собора протопоп Филофей Вуколин Владевич был назначен первоприсутствующим Дубосарского духовного правления. Думается, что отец Филофей к концу жизни не имел оснований считать себя обделенным знаками внимания, а главное – плодами своих дел на новой Отчизне.
Кроме ратных подвигов и выполнения обычных для военного священника обязанностей, отец Филофей заложил немало храмов по Малороссии. Сложно сказать, сколько православных храмов обязано своим основанием деятельному сербу, но, по крайней мере, достоверно удалось установить несколько таких церквей.
Так, 21 сентября 1793 года протоиерей Филофей Вуколин Владевич заложил деревянную Свято-Покровскую церковь в имении полковника Ивана Онуфриевича Куриса. Церковь была заложена в память победы, одержанной русским десантом на Кинбурнской косе под командованием Александра Васильевича Суворова. Иван Онуфриевич Курис, действительный статский советник, волынский губернатор и тоже кавалер ордена св. Георгия 3 ст., сам участвовал в этом десанте. Небезынтересна будет и история награждения Куриса. Награду свою он получил от самого Суворова. Когда в 1793 году после успешного окончания войны с Турцией Императрица Екатерина II предложила Суворову единственный орден для того, чтобы отметить «храбрейшего и достойнейшего» из его подчиненных, Александр Васильевич выбрал именно Куриса. Кстати, сам Курис был грек, его семья точно так же, как и семьи сербских переселенцев, вынуждена была искать пристанища на землях Малороссии. С закладкой Покровской церкви была основана и Покровская слобода. 6 января 1796 года состоялось открытие прихода.
Покровская церковь в Петровке. Фотография 1920-х годов
Еще одна церковь находится в поселке Красные Окны[7]. В 1792 году отец Филофей заложил здесь храм в честь св. Георгия.
В 1792 году протопопом Филофеем Вуколином Владевичем была заложена церковь во имя св. ап. Иоанна Богослова в селе Бирзулы. Сейчас здесь высится просторный Свято-Никольский храм, в котором также бережно хранят память об отце Филофее.
6
Кировоград возник на месте Елисаветграда – крепости Св. Елизаветы, которую начали строить на территории Новой Сербии в 1754 году. А вся Новороссийская губерния образовалась в 1764 году из Новосербского корпуса, где в гусарские полки было поголовно записано все мужское население.
7
Название «Красные Окны» не имеет никакого отношения к эпидемии переименований, окрасившей после революции в красный цвет полстраны. Этимология названия восходит к молдавскому «окны» и означает ни что иное как «красивые ручейки».