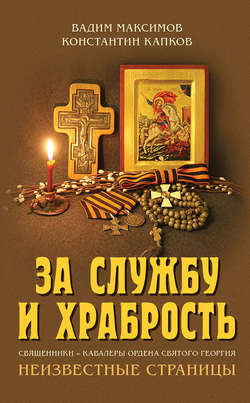Читать книгу За службу и храбрость. Священники – кавалеры ордена Святого Георгия. Неизвестные страницы - Константин Капков - Страница 7
Русско-турецкая война (1787–1791). Россия, Сербия и Черногория. Наполеоновские войны начала XIX века
Цена Георгиевской ленты
Черногорский резидент архимандрит Стефан (Вукотич)
ОглавлениеКонтакты России с православными народами Балкан не ограничивались вопросами эмиграции. Неоценимую помощь оказали черногорцы в русско-турецкой войне 1806 года. Успешные военные действия требовали тесного взаимодействия: России важно было представлять себе современное состояние дел в районе боевых действий, поддерживать тесные отношения с местными повстанцами, координировать местное сопротивление с военными операциями русских войск.
Подобные задачи в современном мире решаются службами внешней разведки, но в конце XVIII века такого органа еще не существовало, и православное духовенство Балкан нередко брало на себя эти функции. Оно выполняло для России разнообразные дипломатические и разведывательные поручения, обеспечивало контакты с властями и местными жителями.
Несмотря на свою немногочисленность, черногорцы проявляли невиданное упорство в сопротивлении туркам. Они всегда ощущали себя неотделимой частью более крупного целого, причем не только на Балканах, но и во всем мире. Надо вспомнить, что именно Черногория оказалась единственным союзником России в русско-японской войне 1904 г., хотя, конечно, она мало чем могла помочь в боевых действиях, происходящих на другом конце Земли. Многовековая борьба с Оттоманской империей создала у этого народа сильное чувство локтя и в непрестанных войнах закалила боевой дух. Черногорцы, как и сербы, проявили себя бесстрашными воинами, всегда готовыми поддержать союзников.
Егор Петрович Ковалевский, знаменитый путешественник и почетный член Петербургской Академии наук, исследовавший Черногорию изнутри, говорил, что конфликты с турками в XIX веке случались там регулярно с частотой 1–2 раза в неделю, в итоге в живых оставался только каждый второй черногорец. Свобода доставалась этому народу дорогой ценой.
У России с Черногорией уже давно сложились самые тесные отношения. Еще при Петре Великом, 16 апреля 1712 года «обязался клятвою Черногорский народ за себя и потомков служить Ему Великому Государю против всякого неприятеля в сопредельных сему народу землях на своем собственном иждивении». Это же намерение было подтверждено и в прошении черногорцев к Императору Павлу I от 10 мая 1798 года. Прошение доставил архимандрит Стефан (Вукотич), служивший Российской Империи с 1788 года. Как выявила исследователь Елена Валентиновна Исакова, отец Стефан выполнял поручения подполковника графа Ивелича «для приведения в единомыслие черногорских и бердских сердарей» (начальников военных дружин), призывал своих соотечественников к борьбе с Портой и привлекал местных матросов к службе в российской эскадре. В 1799 году «за усердие Всероссийскому престолу» был пожалован наперсным крестом. По окончании войны 1806–1812 годов Стефан (Вукотич) остался при Черногорском митрополите Петре I Негоше, выполняя особые дипломатические поручения.
Во время Русско-турецкой войны 1806–1812 годов отец Стефан служил на корабле и, по отзыву капитана графа Войновича, «при ревности к Российской Императорской службе вел себя добропорядочно». В 1806 году, неся службу на Российском флоте, он «оказал ревность и усердие к пользе в интересе Государя Императора, соглашая жителей по духовенству и по его доверенности от народов <…> в привязанности их к России».
Кроме того, в марте 1806 года Стефан (Вукотич) участвовал в боевых действиях Второй Архипелагской экспедиции на о. Корчула. Остров был включен в состав Габсбургской империи после раздела Венецианской республики, а в 1806 году отнят у австрийцев Наполеоном. Россия стремилась сохранить базу для своего флота на Адриатике и Ионических островах. При активной поддержке черногорцев адмиралу Д.Н. Сенявину удалось не только овладеть ключевой крепостью в Которском заливе, но и отбить у французов земли Далмации, в том числе о. Корчулу.
Вот как описывает это сражение В. Г. Броневский в «Записках Морского Офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год»
«…26 ноября [1806 г] главнокомандующий, посадив на корабли: "Селафаил", "Елена", "Ярослав", фрегат". Кильдюин", на 2 транспорта и 5 бокезских корсеров, два батальна егерей, с 150 человеками лучших черногорских и приморских стрелков, отправился к острову Курцало[8]. Чтобы не вредить домов и не убивать безвинных жителей, адмирал приказал, проходя крепость, не начинать прежде пальбы, пока не откроет оной неприятель; но коль скоро 27-го ноября первой корабль поравнялся с крепостью, французы открыли огонь. Каждое судно, проходя, выстрелило по крепости по два и по три заряда на пушку. Пройдя за выстрел, эскадра стала на якорь. 28-го предложена была капитуляция; но французский комендант не согласился, и сказал, что жителей не он, а мы должны беречь».
29-го числа на рассвете была вылазка десанта числом более тысячи человек в 4 верстах от крепости. Выманив французов, черногорцы открыли по ним огонь и отступили, завлекая их под огонь русских егерей. Однако французы, увидев, что их атакуют с флангов, бросились в бой. Силами поддержки морских солдат французов удалось обратить в бегство. В этом бое отличился брат св. митрополита Петра Негоша Савва Петрович, воевавший вместе с черногорцами и приморцами (жителями приморских городов нынешней Черногории) при поддержке нескольких русских егерей.
«30 ноября, корабль "Ярослав", с вооруженными гребными судами, открыл огонь по крепости, в то же время и войска напали с сухопутной стороны. Французы ответствовали пушечными и ружейными выстрелами, но чрез несколько минут замолчали, спустили флаг и подняли белый. По сигналу пальба прекратилась, французский гарнизон вышел, положил ружье, и сдался на власть. Затем наши войска вошли церемониально в крепость и подняли Императорский российский флаг (всем нижним чинам за взятие острова Курцало Государь ИМПЕРАТОР соизволил пожаловать по рублю на человека). В плен взято: полковник Орфенго, 13 штаб- и обер-офицеров и 389 рядовых 81-го полка, убитых на месте 6 офицеров и 150 солдат, раненых офицеров – 3, нижних чинов – 45, всего: 607 человек. Потеря наша убитыми: офицеров – 3, солдат и черногорцев -21, ранено штаб- и обер-офицеров – 9, нижних чинов -66. В крепости получено в добычу пушек 14 с довольным количеством пороха и снарядов. Во избежание затруднения в содержании пленных, отправлены они на честное слово не служить до размена находящихся во Франции, чин за чин, здоровые в Анкону, а раненые в Спалатру».
О. Корчула в XIX в.
В том же 1806 году отец Стефан был представлен Императору Александру I и 12 августа получил назначение на должность обер-иеромонаха Средиземноморской эскадры. А за участие в штурме крепости на острове Корчула был награжден золотым наперсным крестом, украшенным брильянтами и изумрудами, из Кабинета Е. И. В., ценой в 2 300 рублей.
В 1808 году отец Стефан подает необычное прошение: он просит Высочайшего разрешения носить полученный крест на Георгиевской ленте «в воздаяние [того, что] во время сражения с Турками 19-го числа июня прошлаго 1807 года <…> я равномерно по всем силам своим старался возбуждать и поощрять людей к мужеству и поражению неприятеля». Видимо, указание на боевой характер награды для него оказывается гораздо важнее, чем сам факт признания заслуг.
Просьба была удовлетворена. Адмирал Павел Чичагов в письме к князю Александру Голицыну 3 февраля 1808 года отметил: «Известный Архимандрит Вукотич просил о дозволении носить на Георгиевской ленте Всемилостивейше пожалованный ему в прошлом 1807-м году за военный подвиг крест, камнями осыпанный. Я имел щастие докладывать о сем Его Величеству и Государь Император Высочайше указать соизволил дать Архимандриту Вукотичу просимое им дозволение».
Как пишет Исакова, помимо воинской службы у архимандрита были и другие задачи: «Особое положение и особые обязанности, возлагаемые на нового обер-иеромонаха» проясняются из рапорта вице-адмирала Д.Н. Сенявина П.В. Чичагову: «Сверх сей должности я предполагаю употребить его по разным делам с духовными особами, имеющими сильное влияние на жителей здешнего края. Для чего он должен будет жить на берегу, иметь квартиру и содержание, приличное званию его, а иногда и особливые издержки для угощения тех особ, с коими будет иметь дело». Учитывая особое положение и особые расходы отца Стефана, по Высочайшему повелению ему было назначено повышенное жалованье в 30 венецианских червонцев (или 2109 рублей 60 коп. в год) и порционов вдвое больше обыкновенных священников.
Хотя при взятии крепости на о. Корчула не было умопомрачительного штурма 6-метровых стен, как при Измаиле, из описания видно, что сражение было достаточно жарким. Можно обратить внимание и на то, что бой описан так, словно русские и черногорцы давным-давно участвовали в совместных учениях.
Вообще же, благодаря успешному взаимодействию русского правительства с сербами и черногорцами, продвижение войск под командованием генерала Михельсона в самом начале войны (Далмация, ноябрь-декабрь 1806 года) прошло на удивление легко. Этому способствовало и уже ослабшее на тот момент османское влияние в крае. Крепость Бока-ди-Каторо была отнята у австрийцев без единого выстрела. При виде Российского флага тысячи черногорцев спустились с близлежащих гор, и капитану Г.Г. Белли понадобилось лишь слегка возвысить голос, чтобы за предоставленные в ультимативном порядке четверть часа австрийский флаг на крепости был спущен.
После взятия русскими войсками крепости Бока-ди-Катаро Вукотич вернулся на родину. 8 июля 1807 года он получил от вице-адмирала Сенявина инструкцию: «…узнавши на месте о положении Бока де Каттаро, будучи окруженного двумя неприятелями, меня уведомить, и впредь не оставлять Вашими известиями о сем крае, а равно и о положении Далмации и расположении тамошних народов. <…> Я уверен, что Ваше Преподобие ничего не упустите, что бы могло послужить на пользу службы и к благосостоянию обитателей». В 1808 году Вукотич передал графу Румянцеву подробный отчет о событиях и положении в Черногории.
Многие родственники и потомки архимандрита Стефана также служили России. Например, Иоанн Вукотич при Екатерине II обучался в шляхетском кадетском корпусе. Его дочь Елена Иоанновна вышла замуж за Александра Гавриловича Нациевского, впоследствии участника Бородинского сражения и взятия Парижа, генерал-лейтенанта (кавалера орденов: св. Георгия 4-й ст., Владимира 3-й ст. и 4-й ст. с бантом, Анны 1-й ст. и оружия с надписью «За храбрость»). В наши дни их потомок Олег Дмитриевич Нациевский – генерал-майор полиции. В 2000 году Вукотичи собирались в Черногории. На встречу приехали 600 родственников.
Церковь св. Трифона в Напрудном
С именем арх. Стефана тесно связана судьба московского храма святого мученика Трифона в Напрудном. Благочестивый купец Трифон Добряков, узнав о визите черногорского архимандрита Стефана в Москву, обратился через него к митрополиту и князю Петру Петровичу Негошу I с просьбой изготовить за свой счет серебряную раку для мощей его небесного покровителя, покоящихся в г. Котор в Черногории. Петр Негош (ныне прославленный в лике святых как Петр Цетинский) в ответ прислал Трифону частицы св. мощей от главы св. Трифона. Вероятно, помощь от мощей была весьма ощутима. По крайней мере, когда в 1812 году Россию постигла великая
беда в виде нашествия Наполеона, Трифон Добряков счел нужным передать драгоценные мощи Императору Александру I. По окончании войны частицы мощей св. мч. Трифона были с почестями вновь внесены в храм св. Трифона в Напрудном.
8
В документах остров именуется то Курцало, то Курцола. Современное название – Корчула.