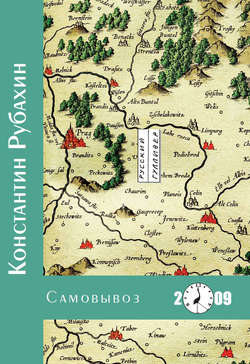Читать книгу Самовывоз - Константин Рубахин - Страница 3
Тело письма
Оглавление«Зачем солдат с себя сгоняет вошь…»
зачем солдат с себя сгоняет вошь,
пока кавказ, пока содом и сера
жужжит и оседает на него ж,
слетев со спички, или капнув с неба?
моздок уже не тот – кругом дома,
и рынок норовит залезть в бумажник;
и только солнце, также задарма,
вздымает зелень из семян вчерашних.
апрель в чечне. поля, как города,
века ужавшие до одного сезона,
не оставляют с осени следа,
и стекла выметаются из дома.
Про гуся
муха мрет на столе,
лапы к богу задрав,
и его исцарапать
или выхватить сверху пытаясь,
мельтешит шестерней,
как агонии вечной солдат,
как привыкший работать всем вверенным телом
китаец.
было мне 10 лет.
лета теплую пыль
город нес на себе,
и июль раздевал всех до маек.
во дворе положил
с черной ручкой ножи
наш сосед, которого имя забыл,
прибалтиец, кажется, марек.
рядом гусь кипирной тесемкой зажат:
петлей крылья, бантик на лапах;
он как веник под лавкой тихо лежал,
и под кожанной пленкой глаза
от детей собравшихся прятал.
было мне 10 лет.
во дворе был помост
деревянный – агитплощадка.
взял за лапы сосед
и птицу понес
и – кышь – покрикивая на нас —
вам такое видеть нельзя бля,
что-то сделал важное, что я сразу забыл,
только гусь опустился на землю,
скинул бантик, вразвалку к нам побежал,
и мы побежали, наверное,
от ожившей птицы, которой зоб
болтался и пустовал,
а рыжие лапы непонятно кого
носили вокруг двора.
потом он сел и под собой
стал рыть на площадке песок,
а марек швырнул в нас его головой,
и я убежал домой.
неделю мы после ходили вокруг
ямы среди двора,
процарапанной парой оранжевых ног
гуся или уже непонятно чего,
как страх, украшенье стола.
«Как таракан, решив выйти из отеческих нор…»
как таракан, решив выйти из отеческих нор,
шевелит хитином усов, прикидывает шансы
забраться под плинтус у дальней стены —
так собираюсь я в восемьдесят втором
в школу, давя сам себя коричневым ранцем,
в котором в пределах разумного решены,
по клеточкам осваивая пространство,
задачи работы домашней -
задатки чувства вины.
«Новый год по старому стилю…»
новый год по старому стилю.
в вагоне-столовой
висит мишура и выключен свет.
бордовые щупальца «дождика»
дотягиваются до котлет
на столах. поезд стоит под городом ржава
на полпути к курску.
в окнах лестницы и фонари.
проезжающий этой державой
рад любому населенному пункту,
как свету из под двери.
Москва 1907–2007
я держу в уме исторический слой
на метр вниз,
где москва – в сравнении с этой —
деревня, и навоз
на воздухе, не лежит,
как сегодня смог,
а лежит на брусчатке,
где на сухаревской из
башни открывается вид
на трехэтажный центр.
и, чтоб выйти из дома, сначала
ты надеваешь галоши
на общем лестничном марше.
представляя такою москву
я чувствую себя лучше,
как зная, что будет дальше,
когда тут живу
К весне
небесный бармен ни на чей заказ
в стакан москвы ночной подкладывает
льда.
экран рекламы – электронный страз,
мотив труда.
рябит окно,
одежда на полу,
сквозняк подъезд улиткой обживает,
и тело ждет тепло, как жулик похвалу,
чтоб не поверить, взгляда избегая,
но жизнь закончить прежнюю к утру.
так резко обрывается февраль,
хоть срок его пенетециарно нуден.
под санитарно-белую метель
и воду твердую, как канифоль,
остановившуюся на паяльном блюде,
я спрятаться хотел.
не по сезону общеримский календарь
солжет еще раз, начиная первый
день весны. и город белый
с утра ему, как тапки, подавай.
как с солнцем труп глазастый, леденелый,
из снега вырастет оранжевый трамвай
Старый летчик
9 мая 2008. Москва
солнце топорщится в семь утра,
москве объявляя май;
с борта не видно того двора,
которого тридцать пять лет назад
пазуху обживал.
каштаны подкинули белую горсть,
сверху не пахнут цветы;
машины толкают вялую злость
через сиреневый дым.
ест гусениц камни таблеток чугун —
стучит по площади танк
о том, что никогда одному
здесь оставаться нельзя.
потом летят, как копья, стрижи,
и самолеты, урча,
несут в кабинах каждую жизнь,
и непонятно – где чья.
Девятое мая.
Фотография из окна трамвая
конный праздничный мент
цокает с рацией в рот,
переходя проспект
через майский парад.
на обнаженной москве,
холодом спрятав лист
дерева в черном сучке,
время, рождается из
каждой секунды того,
чем кажемся. мы
следим за «сейчас»,
чтобы его побороть
выдуман был глаз
камеры, пленка и сеть
кремния, и серебро.
лучше на все смотреть
через стекло.
Фотография пустой Красной площади, сделанная в людный день на длинной выдержке
с точки зренья камней
нас нет на ней.
из живого камню доступна ель,
и скелет в стене,
или труп в стекле
для булыжника есть обещанье нас,
как круги на полях,
до того, как рожь
будет скошена – так с доски
мы стираем формулу, не решив,
как сойдется над нами земля.
Полонез Огинского «Прощание с родиной»
дама падает в метро.
набок и чуть-чуть вперед,
головою достает
набежавший турникет.
падает и так лежит.
не решаясь дальше жить
в общем,
в частности, в москве.
даме где-то сорок лет,
и снаружи причин нет —
видно, есть внутри нее.
кто-то рядом с ней встает,
поднимает вверх лицом.
набирает телефон
в своей будке контролер.
дама создает затор,
доктор ищется в толпе,
полонеза ля-минор
напевает турникет.
«Май, исходя, перрона плоскость греет…»
май, исходя, перрона плоскость греет,
тряся бездомным утренним асфальт,
по солнцу бьет, галдя и розовея,
как в шапке краденой, под башенкой вокзал.
вот свет простой оглохший и весенний
несет семнадцать градусов в зубах —
змеиной каплей внутренней, нательной
под хлопком он спускается рубах.
метро вагон железом дышит в трубку —
от комсомольской считано в груди
дворцов три станции, четыре промежутка —
на линии зеленой перейти,
динамо – сокол – капля лезет в брюки,
подпрыгивает кабель за окном,
москвы перебирая поезд юбки,
под ее черным лезет подолом.
«По реке возили Москве паром…»
по реке возили москве паром,
зеленела вода под ним,
и народу было на нем полно —
ежегодный корпоратив.
ночь с субботы на что-то
в едва сентябре
протянулась с филей до коломн,
где у раскопок коренных москвичей
перевернулся паром.
за борт прыгали менеджеры, визжал женский стаф,
плыл за красным кругом завхоз
и в руке над головою держал
assus новый смартфон.
с края судна, застывшего над водой,
капитан говорил с мчс,
перекрикивая электричку метро,
громыхавшую через мост.
Владивосток–Москва
как пизда,
овраг темнеет на снежном склоне.
человек курит в тамбуре в голубом исподнем.
седьмой день в поезде с него снял штаны
и пиджак.
он остался один
между частями
семьи и света,
путь на запад разделив ночами
на семь фрагментов,
освоенных рельсами
транссибирской вены,
глядя поверх нее, как начальник.
он курит, подъезжая к москве, понуро.
он потомок геологов северо-восточного поколенья.
через час в метро его клетчатые баулы
будет потрошить наряд увд на метрополитене
В гости
железом дом, себя блюдя от улиц,
калитки языком толкнет гостей
в подъезда горло, как таблеток глянец,
ссыпая в рот, глотаешь без воды.
внутри их спины вылижет консьержка,
пока, перебирая сверху вниз
в тоннеле шахты этажи, как четки,
спускаться шкафом будет на веревке лифт.
фанере этой не особо веря,
в нее, как в лодку не свою войдя,
сожмутся вместе гости, чтобы двери
одна другой нащупали себя.
восьмерки знак на предпоследней кнопке
задавлен пальцем, в алюминий влип,
как из под ног меняя табуретку
на пустоту, вниз лезут этажи.
гостей встречает, выйдя на площадку,
как юбки красной двери дерматин
подол подняв, и кухни запах сладкий
уже не умещается за ним.
Вместо детектива
в ту ночь, в проступившем едва октябре,
домашний вольфрам на стене в пузыре
светился от напряженья.
квартира смотрела, как кошка во двор,
два глаза держал ее стынущий дом
под шерстью листвы осенней.
и станет заметно через пару недель,
когда тополя, как лещ объеден,
костьми встав, окна не закроют,
что ящики прут горой в потолок,
что нет занавесок, в квартире голо,
и кто-то накрыт с головою.
«Смысл времени не ясен…»
смысл времени не ясен,
не понятна метра грусть,
пока я его обратно
прохожу куда-нибудь.
поезд роет снег по пояс,
черной щетки зимний лес
уступает место полю,
свет в вагоне – кто-то есть.
край стакана в поцелуе,
и волною черный чай
расплескался по столу, и
ложки о стекло стучат.
это зимняя дорога —
смерти верной по бокам
держат горизонт сугробы
снега вечного пока.
«Циклон был зол, родившись в шапке мира…»
циклон был зол, родившись в шапке мира,
с нее сползал, как снега козырек
и падал с накренившегося неба
за шиворот, как снайпер подстерег.
всего ноябрь. теперь еще сто двадцать
жить дней без черной обжитой земли
и перед ветром в пояс наклоняться,
как только русские кланяться могли.
«От шасси отвалился…»
от шасси отвалился
последний квадратный метр
русской столицы,
профиль которой вверх
прорастает, давя, как тяжелый грим
на лицо актера,
забытого под ним
сундуком в глубине коридора.
отпускает, как, высохнув, грязь
осыпается, делая легче в два
раза шаг, когда подо мною, вертясь,
вниз проваливается москва.
«Свет идет равнодушно…»
свет идет равнодушно
к тому, что на
его пути возникает робко,
как рябью обведена
на воде зависает лодка,
так лечу в самолете поверх тумана,
и москва внизу,
как выпавшая из кармана
мелочь сквозь решетку
стока —
не достать, зато ближе к богу
этот вид транспорта,
где на выбор предложат
налить вина.
и, если ты выпил,
это может
значить аэрофобию
или отпуск.
мы с творцом,
получается, квиты
за линолеум, прибитый
к полу
моего ровесника ту,
в котором
я, как долгоиграющий леденец
у него во рту,
перекатываюсь
с мотором,
выпадая из низких туч
в лучшем случае
на полосу.
«В холле гостиницы…»
в холле гостиницы,
где у бара
прилично быть одному —
если составишь пару,
то известно кому.
известно кто, набиваясь в лаунж
и тугие юбки,
не отводят взгляда,
как если на нож
хотят посадить
и ищут повода
навстречу подняться,
из карманов вытащить руки.
впрочем, на ночь
договориться,
все равно, что маленькое самоубийство
доверить профессионалу,
и, держась в стороне,
ожидать, выполнения
под покрывалом,
скрепя сердце,
считая в уме.
«От наглости или тупого счастья…»
от наглости или тупого счастья,
которое крошь хлебная дает,
ничьей ходьбы не замечали чайки
и лезли как булыжник под нее,
и растворялись тлей под каждым следом,
который набережной ступенел.
вода внизу бурлила черным хлебом,
санкт-петербурга прячась в рукаве.
когда октябрь, река, как диафрагма,
ощупывая набережную, жать
начинает, как ребенка мама