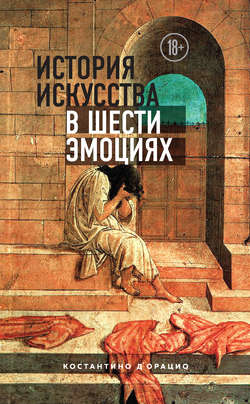Читать книгу История искусства в шести эмоциях - Константино д'Орацио, Костантино д'Орацио - Страница 5
Глава 1
Желание
От слова к изображению
ОглавлениеУпотребление вина всегда сопровождалось у древних греков чувством некоторого удивления. Сама сцена вкушения вина из кубков была чрезвычайно живописной, она должна была усиливать желание, пробуждаемое хмельными напитками. Объятия, танцы, намеки на поцелуи и ласки были неотделимы от сосудов с вином, переходивших из рук в руки сотрапезников.
Тем не менее, рассматривая черные фигуры, которые начиная с VII в. до н. э. украшали жертвенные чаши, кувшины и тарелки древних греков, мы ясно видим, что отношения и чувства, связывающие людей, выражаются посредством поз и жестов изображенных на них персонажей, но не через выражения их лиц. Сжатые рты, застывшие взгляды, гладкие щеки: лица героев, богов и прекрасных женщин неизменно отражают безмятежность, сквозь которую не проступает ни тени желания, даже в том случае, когда речь идет о постыдном эпизоде или позорном событии.
Ахилл, охваченный непреодолимым желанием соединиться с Пентесилеей, не обнаруживает ни малейшего беспокойства. Хотя такое его поведение вызывает, мягко говоря, недоумение.
Пентесилея была самой неистовой из амазонок, явившихся в Трою после смерти Гектора для того, чтобы защищать царя Приама. Приняв вызов греческого героя сразиться один на один, она защищает голову шлемом, скрывающим ее лицо. Ее ловкость и сноровка были таковы, что никто не смог заподозрить в ней женщину. И только в тот момент, когда отважная воительница падает замертво от удара, нанесенного ей Пелидом[6], происходит непредвиденное: как только открывается лицо Пентесилеи, Ахилл мгновенно оказывается охвачен непреодолимым любовным желанием. При этом для него совершенно не важно, что она истекает кровью и, возможно, уже мертва. Ахилл чувствует, что он должен овладеть ею. Прямо на пыльном поле сражения у ворот Трои, под взглядами сражающихся воинов и безжалостных богов, обуревающее его желание и смерть толкают на совершение поступка чудовищного эгоизма.
Ахилл влюбился в Пентесилею, потому что она отважилась принять его вызов. Одна лишь мысль о том, что амазонка поднялась на его уровень и сразилась с ним на равных, сводит его с ума. Его страстное желание не выдерживает никакой критики. Эта женщина была запретным плодом, который вдруг стал доступен, и он совершает поступок, недостойный героя.
В середине VI в. до н. э. Экзекиас еще изображал на греческой керамике их фигуры, слившиеся в трагическом объятии, когда она, побежденная и коленопреклоненная, падает под ударом неприятельского копья. Эта сцена выглядит любовной, благодаря расположению и пропорциям тел: женщина гораздо меньше мужчины. Ее откинутая назад голова покоится на плече греческого воина, открывая ее шею. Эротический смысл объятия подчеркивается их взглядами, направленными друг на друга и служащими мощным средством и инструментом любовного убеждения.
В течение нескольких десятилетий так называемый Художник Пентесилеи – мощь изображенных им двух фигур закрепила за ним это имя – размещает их в центре жертвенной чаши (рис. 2), где амазонка бросает на своего соперника покорный взгляд, жалобно умоляя его о пощаде, однако Ахиллес остается безучастным, полностью отдавшись удовлетворению своего сексуального желания, самого мерзкого из всех, когда либо изображенных. Ни следа жестокости или крови. Совокупление героев показано лишь намеком, в условных позах, о нем можно лишь догадаться по деталям, позволяющим узнать обоих персонажей и реконструировать события, опираясь на свою литературную память.
Рис. 2. Пентесилеи. Ахилл и Пентесилея. Ок. 460 г. до н. э. Краснофигурная керамика. Глиптотека, Мюнхен
Греки классического периода находили слова для описания своих худших злодеяний, тем не менее они скрывались за благородной сдержанностью в тот момент, когда должны были представить эти злодейства в живописи или скульптуре.
Объятие Ахилла и Пентесилеи осталось единственным в классической греческой живописи, дошедшим до нас.
В Городском музее Болоньи хранится аттическая дароносица из Афин, датированная концом VI в. до н. э. На поверхности этой маленькой вазы изображены несколько персонажей, окруженных венком из перемежающихся пальмовых листьев и цветов лотоса. Художник изобразил шесть фигур: справа бородатый старик, слева ребенок с собакой и безбородый юнец, полностью закутанный в покрывало. В центре композиции располагаются стоящие фигуры мужчины и женщины, размеры которых значительно превышают других персонажей, они накрыты одним покрывалом, украшенным звездами, слившись в тесном объятии, которое едва угадывается под покровом, скрывающим формы их тел. Их соединяют теснейшие узы, их руки переплетены, эти двое слились в одну фигуру. Ни одно постороннее чувство не нарушает композицию: их взгляды проникают глубоко друг в друга, подчеркивая взаимность их любовного стремления.
Вероятнее всего, речь идет об изображении важнейшего момента в итальянском бракосочетании: полового сношения, санкционировавшего превращение из девушки в жену, способную рожать детей, чтобы затем предоставить их в распоряжение полиса и гарантировать таким образом семейную преемственность. Все происходит в присутствии старика отца и ребенка, в их обязанности входило управление свадебным кортежем. Симметричное расположение персонажей, ощущение спокойствия, пронизывающее всю сцену, подчеркивает законность этого любовного желания, его совершенную включенность в сложившуюся систему социальных отношений.
В представлениях той эпохи самое всепоглощающее и самое невинное чувство был пронизаны одним и тем же ощущением спокойствия. В повседневной жизни желания выражались очень просто. Нужно было отправиться в театр, чтобы встретиться там с выражением страстного желания, переживаемого во всей его полноте и выраженного совершенно откровенно благодаря жестам и голосам актеров. Драма рождалась из стихов, перенесенных на сцену, публика вовлекалась в переживание трагедии, будучи охвачена теми же эмоциями, что и действующие лица. Вот, к примеру, отрывок из Еврипида, «Ипполит»[7]:
Где разум? Где стыд мой? Увы мне! Проклятье!
Злой демон меня поразил… Вне себя я
Была… бесновалась… Увы мне! Увы!
Точно так же, как Сафо, Федра из знаменитой трагедии Еврипида предпочитает скорее умереть, чем испытывать неудовлетворенное желание, вожделение к Ипполиту, своему пасынку, чьим именем и была названа пьеса. Федра, жертва интриг Афродиты, стала орудием мщения юноше: Афродита отдала ее во власть Эроса из ревности к Артемиде, верность которой хранил Ипполит. Федра страстно влюбилась в Ипполита и пыталась соблазнить. Это стало причиной ревности и гнева со стороны его отца. Однако Ипполит отвергает домогательства мачехи и тем самым доводит ее до самоубийства. Но, прежде чем покончить с собой из стыда за своё недостойное желание, Федра обвиняет юношу, что он домогался ее, раскручивая тем самым спираль лжи, которая приведет к гибели Ипполита. Так любовь становится орудием наказания.
Если эта история звучит в греческом театре с такой же силой и жестокостью, с какими она была представлена на гробницах – как, например, на саркофаге, сохранившемся на монументальном кладбище в Пизе, – то уже гораздо мягче она смотрится на композиции, где изображено прекрасное тело Ипполита, на которого с вожделением смотрит опечаленная Федра. Она без сил опустилась на трон, поддерживаемая старой кормилицей, и не в силах отвести взгляд от неотразимой красоты юноши. У ее ног примостился Эрос в кокетливой позе, опершись подбородком на руку и со скрещенными ногами, в ожидании, когда вспыхнет огонь ее страсти.
Хрупкое равновесие поддерживается спокойствием и предсказуемыми позами персонажей, на лицах которых не отражается никаких эмоций.
Слова и изображение повествуют об одной и той же истории, однако эмоция рождается при переходе от одной из них к другой.
6
Пелид (греч., происходящий от Пелея) – в греческой мифологии имя Ахилла (по отцу).
7
Еврипид. Трагедии: в 2 т. / пер. И. Анненского. М.: Наука, Ладомир, 1999. Т. 1. Литературные памятники.